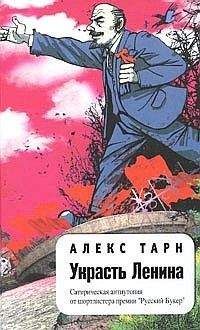Он слегка мнется, как человек, которому из скромности не хочется лишний раз подчеркивать заоблачный уровень своего успеха, но потом решает, что лучше сказать, коли уж спрошен… в конце концов, он ведь не напрашивался на этот вопрос, правда?.. Толя ведь сам спросил, так отчего бы и не ответить?.. И потом, вероятнее всего, что заурядный человек, коим является Грецкий, даже не знает о существовании этого небольшого, но роскошнейшего аристократического отеля, лучшего в Лондоне, если не во всей Европе; Грецкий, наверняка, просто не слышал о нем, да и как услышать, если стоимость одной ночи в таком номере может превысить размеры полугодовой толиной зарплаты? Как?
— Да вот… — говорит он смущенно. — Есть одно такое место. «Честерс» называется, тут недалеко. Ты навряд ли знаешь…
— Отчего же? — возражает Толян. — Знаю эту дыру. Шурин мой всегда там кантуется, когда приезжает из Милана. Неудачник. Рассорился со всей семьей, развелся… Бедняга. Знаешь, как это бывает, когда некуда податься… вот и ночует там, как под забором. Но черт с ним. Не пойти ли нам выпить по стаканчику, Вадя, как ты думаешь? За встречу?
И тут, слегка уже пораженный услышанным, Вадик замечает, что одет его институтский приятель весьма и весьма… как бы это сказать… миллионно. Что светлый летний костюм сидит на нем с изысканной небрежностью, достигаемой только длительным опытом ношения и искусством портных, которых не спрашивают о цене. Что ботинки делают честь любой поверхности, на которую ступают, включая паркет королевского дворца. Что запонки и булавка в галстуке могли бы принадлежать нефтяному султану, когда бы у султана нашлось немного больше денег и вкуса. А галстук… о, галстук! Возможно ли описать словами это чудо, хотя бы даже и во сне, где возможно все? От него веет палатой лордов, париком Бэкингема и файв-о'клоком у принцессы Дианы, и в то же время он уместен в любой обстановке: даже здесь, на потном туристском тротуаре, даже на рынке, да что там на рынке — даже на другой планете!
Вадику снится, что он поднимает на Грецкого обалдевшие, хотя и спящие глаза и видит слегка насмешливое, слегка брезгливое, но в то же время безупречно учтивое выражение его красивого, тщательно подтянутого лица. Он все понимает, этот паршивец! Он читает Вадиковы чувства ясно, как визитную карточку неотесанного купчишки-нувориша, осмелившегося прислать ему — ему! — приглашение на ужин. «Я родственник барона Штиглица! — проносится в Вадиковой голове. — Я тоже очень богат!»
— Так что? — спрашивает Грецкий, начиная скучать.
— Ты о чем?
— Стаканчик за встречу. Мы могли бы…
— Конечно, конечно, — спешит Вадик. — Предлагаю взять кэб и поехать в…
Он называет имя фешенебельного ресторана. Грецкий морщится.
— Ты что… в эту забегаловку?.. Нет-нет, мы идем в мой клуб. Он как раз в двух шагах отсюда. Хотя, подожди. Туда пускают только в галстуках.
Рука Вадика непроизвольно поднимается к шее.
— Я в галстуке…
Грецкий снова морщится.
— Нет-нет, ты не в галстуке, Вадя. Это — не галстук. Погоди-ка… — он поднимает палец и оглядывается, словно ища что-то. — По-моему, где-то здесь было… ну конечно, пошли.
Приятель тянет Вадика за рукав. Они быстро минуют квартал, спускаются в неприметный подвальчик без вывески и попадают в просторный холл с гардеробом. Навстречу уже спешит седовласый человек, похожий на герцога, но оказывающийся всего лишь продавцом.
— Э-э, здравствуй, любезный, — произносит Толя, глядя поверх седовласого туда, где тяжелый лепной карниз соединяет потолок со стеной. — Мой друг без галстука. Нельзя ли…
Продавец почтительно оглядывает Вадика и кивает: действительно, без галстука.
— Сейчас, сейчас, Ваше сиятельство…
Неведомо откуда появляются и раскладываются на столе галстуки. В приглушенном свете магазина они кажутся скромными, но, без сомнения, принадлежащими к той же породе, что и галстук Его сиятельства. Грецкий бросает на прилавок мимолетный взгляд и тут же возвращает его назад, к карнизу.
— Вот этот, третий слева…
— Прекрасный выбор! — восхищается седовласый.
Повязанный Вадику галстук действительно исключительно гармонирует с рубашкой, пиджаком, прической… со всем, кроме растерянной и в некотором роде даже обиженной физиономии.
— Хорошо, — говорит Вадик почти жалобно. — Сколько я вам должен?
Лицо продавца вытягивается. Видно, что он не привык к таким бестактным вопросам.
— Тридцать шесть, — произносит он ледяным голосом.
Вадик лезет за бумажником.
— Тридцать шесть чего? Фунтов? Долларов? Евро?
— Тридцать шесть тысяч фунтов.
— Сколько?!
— Оставь, Вадя, — вмешивается Грецкий, неохотно отрываясь от созерцания карниза. — За галстук плачу я. Я тебя раскрутил, я тебя и… убью!
Он смеется дурацкой шутке и на секунду становится похожим на прежнего Тольку Грецкого, спортсмена с третьего потока, плейбоя и бабника.
— Ни за что! — упрямится Вадик.
— Оставь, оставь… — лениво повторяет Грецкий и поворачивается к седовласому. — Запишите за мной.
Седовласый с готовностью кланяется.
— Я настаиваю! — сердито говорит Вадик.
Но на него уже никто не смотрит. Здесь слушают не его, а Его. Его сиятельство.
Потом они идут в клуб… или в пуб, садятся в кресла… или на стулья с жесткими спинками, пьют виски… или не виски, а мыльную воду: Вадик не помнит, не видит, не чувствует ничего, кроме паршивой тридцати-шести-тысяче-фунтовой удавки, огненным обручем стягивающей его шею. Во сне это особенно неприятно. Но главная беда даже не в самом галстуке, а в ясном сознании того, что жизнь кончилась, прошла, сгнила, ухнула в тартарары, лопнула ни за грош, как и не была вовсе. А Грецкий тем временем скупо, но значительно повествует о том, о сем.
— Видишь ли, Вадя, — задумчиво произносит он. — Чтобы сидеть за одним столом с королевой, не обязательно родиться герцогом. Вполне достаточно жениться на его внучке. Внучки герцогов начинают мечтать о таком, как я, с шестнадцати лет, и в последующие двадцать эта мечта только усиливается. В аристократическом мире катастрофически не хватает настоящих жеребцов. Исключая тех, что в замковых конюшнях…
«Встань, и уходи оттуда! — командует Вадик себе, спящему. — Уходи немедленно, а не то и впрямь сдохнешь.»
Но убегать просто так, не сказав ни слова, было бы совсем позорно, и поэтому Вадик делает вид, что идет в туалет сполоснуть лицо, и в итоге действительно попадает туда, подталкиваемый в спину насмешливым взглядом Грецкого, а в туалете отчего-то сидит Вовочка и смотрит на него печальными глазами, полными слез.
— Вовочка! — радостно бросается к нему Вадик. — Ты даже не представляешь, кого я встретил. Тут… помнишь Грецкого? Хотя, нет, ты же его не знал…
— Как же не знал… — грустно говорит Вовочка. — Конечно, знал. Я все знаю и тебя, Штюбинг, научу. Только ты мне потом тоже поможешь, договорились? Сейчас ты возвращаешься за столик и делаешь так…
И шепчет Вадику на ухо заветное решение текущей проблемы, как когда-то, в детстве. И Вадик возвращается к Грецкому совсем другим человеком, улыбающимся, уверенным, так что тот даже спрашивает, не нюхнул ли он в туалете чего?
— Жизни нюхнул, Толян, жизни, — весело отвечает Вадик. — Живой водицой сполоснулся. Ты извини, друг, но мне пора. Дела, знаешь ли… Проводишь?
Они выходят из клуба, и тут Вадик совершает подсказанное Вовочкой действие, неожиданное и убийственное, как удар под дых. Он неторопливо стягивает с шеи тридцати-шести-тысяче-фунтовый галстук. Он рассеянно оглядывается.
— Слышь, Толян, — говорит он. — Теперь, когда мы уже не в твоем клубе… Теперь уже можно снять? Так… где тут у вас урны? Ах, вот она.
И небрежным движением Вадик отправляет в заплеванное мусорное ведро все тридцать шесть тысяч английских породистых фунтов. Краем глаза он улавливает непроизвольное движение Грецкого вслед: поймать, удержать, остановить… ага, проняло! С широкой улыбкой на лице Вадик наблюдает толянову растерянность, толянову боль, толяново отчаяние: ну что?.. у кого теперь жизнь удалась?.. а?.. у кого теперь толще?.. кто теперь на коне, жеребец хренов? Он покровительственно похлопывает Грецкого по плечу: ничего, мол, бывает и хуже, и пружинящей походкой уходит прочь, в сияющие дали удачи и безграничного личного счастья, оставляя поверженного соперника позади, наедине с мусорной урной, откуда свешивается мертвая невзрачная змея галстука, как символ проигранной жизни — такой же ничтожной и дохлой. Знай наших!
И тут:
— Вадя!
Вадик оборачивается. Перед ним уже нет Грецкого… сбежал, трус! Зато урна — вот она, на месте, правда, без свисающего галстука… кто-то уже стащил, вот же ловкачи… неужто сам Грецкий?.. с него станется.
— Вадя!
Из урны, как чертик из табакерки, выглядывает Вовочка.