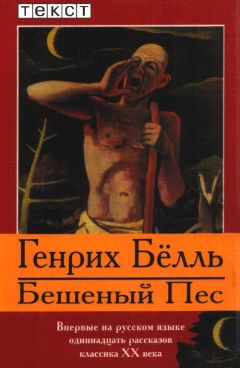А лейтенант со своими людьми в этот момент поспешно спустился с моста, показал мне, пожав плечами, на свои часы — было без пяти секунд четыре, а другой рукой — на несколько русских танков, стрелявших прямо в гущу бегущей толпы и грозно приближавшихся к мосту.
Сам я, когда увидел горящий бикфордов шнур, бросился в свою контору и велел срочно соединить меня с Главным строительным штабом «Юго-Восток». Но прежде, чем меня успели соединить, зазвонил мой телефон, я снял трубку и услышал голос моего начальника: немедленно прекратить строительство. А поскольку он хотел уже повесить трубку, я крикнул «Подождите!» и доложил, как положено: строительство моста закончено в соответствии с приказом минута в минуту. Но он уже ничего не слышал. Да и я чуть не оглох от ужасного грохота, с которым мост взлетел на воздух. Потом я зашагал к своей машине и велел остальным также двигаться в путь. Но никто не сможет от меня узнать, как выглядел мост у Берково после взрыва, потому что я ни разу не обернулся, хотя русские танки стреляли уже по домам поселка. И все же иногда мне чудится, будто я вижу все — и мост, и людей, бежавших из последних сил и сопротивлявшихся до конца, защищая нас, как того требует армейская дисциплина. И хотя я на самом деле их не видел, теперь я их вижу, вижу на их лицах страх перед смертью или пленом, а также ненависть к нам, которые ведь не сделали ничего, кроме того, что предписывал наш долг.
Перевод Е. МихелевичМертвые уже не повинуются
Лейтенант приказал всем лечь на лесной опушке, и мы залегли. Была весна, тишина вокруг, и мы знали, что война скоро кончится. У кого еще остался табак, закурили, у кого не осталось, попытались уснуть; все выдохлись — три дня шли полуголодные, в постоянных стычках. Стояла удивительная тишина, щебетали птицы, воздух был напоен нежностью, ласковой, влажной…
Внезапно лейтенант окликнул кого-то:
— Эй! — И еще раз громче: — Эй, вы! — Потом взбесился и заорал во всю глотку: — Эй, вы там, эй!
Мы разглядели того, к кому он обращался. По другую сторону лесной дороги сидел человек и спал. Прислонившись к дереву, самый обыкновенный серенький солдат дрых; его веснушчатое лицо сладко-сладко улыбалось, и мы подумали, что лейтенант сейчас спятит. Еще мы подумали, что спятил и дрыхнувший, так как лейтенант орал все громче, а солдат по-прежнему улыбался…
Закурившие перестали курить, задремавшие очнулись, а некоторые даже заулыбались. Была весна, нежная и ласковая, и мы знали, что война скоро кончится.
Лейтенант вдруг перестал орать, вскочил, в два прыжка пересек дорогу и ударил спящего по лицу.
И мы увидели, что улыбавшийся солдат был мертв. Не сказав ни слова, он повалился. На его лице больше не было улыбки, на нем появилась страшная гримаса. И побледневшему лейтенанту мы нисколько не сочувствовали. Мы больше не радовались солнцу, не наслаждались ласковым, нежным весенним воздухом, казалось, нам теперь все равно, кончится война или нет. Внезапно пришло ощущение, что мы все мертвы, и лейтенант тоже — он скалил зубы, и мундира на нем больше не было.
Перевод Н. БунинаВ этом взъерошенном кустарнике с трудом угадывались старые дорожки, кое-где они вообще пропали, изгородь вся в дырах — зайти в парк можно в любом месте; переросшие кусты вытоптаны, завяли или сгнили, а новые подросли и так переплелись между собой, что по дорожкам стало совсем не пройти, а люди уже протоптали новые, без всякого плана, так, как им было удобно, поэтому все дорожки вели к одному месту — к дому. Даже старая главная аллея, полукругом огибавшая парк, почти вся заросла. Трава с газонов выползла на аллею и полностью затянула ее, а в новой редкой дернине бодро произрастали побеги бузины, самшита и сирени; трухлявые садовые скамейки были покрыты палой листвой; фонтан на верхнем повороте аллеи оброс мхом и забит грязью и жестяными банками, при этом, несмотря на сырую весеннюю погоду, в нем не было видно ни следа влаги; стальная труба, по которой раньше сюда поступала вода, погнута чьим-то метким камнем. Я увидел, что здесь недавно играли дети; они раскопали ямку в тине, и на ее дне показалась густая зеленоватая жижа. Увидел я также, что большая, посыпанная гравием площадка была перекопана и засеяна, а камни и гравий свалены в фонтан. Кое-как слепленные оградки защищали несколько жалких кочанов капусты, за зиму успевших подгнить, водопроводные трубы, с которых свисали увядшие остатки вьющихся бобов, и несколько жестяных бочек для воды, жидкость в них была зеленоватой, и от нее несло такой же вонью, как и от той, что скрывалась под фонтаном.
Но вот я обнаружил и человека. В закутке, где, наверное, должен был храниться садовый инвентарь, на ящике сидел старик с трубкой во рту, держа лопату между колен. Но, как ни тянуло меня к людям в этот мягкий и слегка туманный вечер моего возвращения на родину, я все же отшатнулся в испуге, когда в самом деле увидел человека; я сделал несколько шагов назад, так что закуток вновь скрыл нас друг от друга, и только тогда огляделся.
Отсюда было хорошо видно, каким парк был раньше. Прекрасный размашистый полукруг некогда был посыпан белым гравием, а теперь весь перегорожен жалкими заборчиками из узких жестяных полос, погнувшихся от ржавчины и грозивших вот-вот рухнуть, газовыми трубами и сучьями буков; тем не менее это место сохранило нежную и законченную красоту, хотя некогда ровный и ухоженный кустарник, растущий по краям, теперь был взъерошен, обломан, сожжен и затоптан. Археологи говорят, что нет ничего более долговечного, чем яма, то есть нечто выкопанное в земле; так и этот любовно разбитый парк еще полностью сохранил свою форму. Наверху, в самой высокой точке четкого полукруга, осталась небольшая, но идеально круглая чаша фонтана, теперь замусоренного; от ворот к нему шла прямая линия главной дороги. Да и в расхристанном, зеленоватом, лохматом уродстве кустарников отсюда были хорошо видны узкие тропки, незаметные с близкого расстояния; позади зелени кустарника они сохранились в полной неприкосновенности, словно старые рубцы от ран, а справа и слева от главной дороги четко и ясно виднелись две дорожки, сделанные в форме нотных ключей.
Наконец я отважился бросить взгляд на дом. Я хорошо разглядел его сквозь бреши в строчке тополей, листва которых была густой и свежей, молодой и яркой. Я посчитал тополя: из двенадцати осталось семь, а вот две плакучие ивы на концах ряда оказались в целости и сохранности. Фасад дома почти не изменился, такой же серый и немного неряшливый, как и было задумано. Лишь кое-где отвалились большие куски штукатурки и появились большие, беловато-серые водяные разводы, какие бывают на переплете старой книги, пролежавшей какое-то время в воде; целых окон осталось немного, большинство затянуто толем или забито досками, некоторые частично заложены кирпичом, так что в середине оставалось маленькое окошко, слишком маленькое по сравнению с огромной рамой.
В эти минуты я только наблюдал. Воспоминаний было чересчур много, чувств тоже с избытком, так что я не мог позволить себе предаться им сейчас. И хотя меня связывало с этим парком все, что можно назвать прошлым, воспоминанием, молодостью, жизнью, я не мог пока стоять тут иначе, как путником, который где-нибудь в районе загородных вилл, поддавшись любопытству, проходит через полуразрушенную ограду и мимо безнадежно проржавевшего портала в сад, чтобы поглядеть на следы запустения.
Очень больно смотреть на эти изменения изнутри, если они происходят на пороге твоей жизни. С невыразимой печалью покидаешь игрушки и площадки для игр твоего детства, чтобы броситься со страхом, грустью и радостью в эту сутолоку, которую взрослые всегда называли жизнью; еще печальнее покидать дом своей юности, место, где ты предавался мечтам, смутно понимая, что наши воспоминания — всего лишь воспоминания о мечтах, в этом месте ощущаешь вкус несказанной боли того, кем ты станешь, когда превратишься из мужчины в старика, и того единственного неотвратимого мгновения, когда ты перешагнешь порог смерти, дабы переселиться в другой мир.
На крыше дома кое-где сохранилась старая темно-серая черепица; потолки, очевидно, начали протекать, и теперь дыры были забиты толем, жестью, пестрыми рекламными щитами, и даже из крошечного чердачного окошка торчал шест, на котором вяло покачивались под слабым ветерком серые и грустные пеленки. С левого угла крыши свисал кусок желоба, точно так же, как он свисал семь лет назад, когда я стоял на этом самом месте и прощался. Тогда я подумал: они должны это починить; у меня не было мысли, что я сейчас уйду и не знаю, вернусь ли. Нет, я думал только о том, что они должны это починить. Но они не починили, желоб все еще висел, оторвалась только одна из скоб, удерживавшая его на краю крыши, и он висел теперь криво, так что казалось, будто он может свалиться в любой момент, и на серой стене дома ясно виднелись следы воды, которая после каждого дождя стекала наискосок по поверхности стены и просачивалась внутрь; белый подтек с темно-серыми краями тянулся мимо окон вниз, слева и справа от него образовались большие круглые пятна, тоже белые в середине и серые по краям.