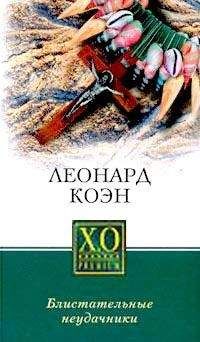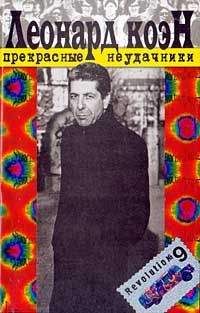39
Мне вспоминается та ночь, когда мы с Ф. ехали по скоростной дороге в Оттаву, где на следующий день ему предстояло выступать в парламенте с первой речью. Луна скрылась за облаками. Свет фар выхватывал из тьмы белые придорожные столбики и тут же стирал их как жидким ластиком, а позади оставались неясные очертания тонувших во тьме дорог и полей. Он притопил до восьмидесяти. Образок святого Христофора, приколотый к обивке салона над ветровым стеклом, сначала едва покачивался, очерчивая свою орбиту, потом стал описывать резкие кривые.
– Потише, Ф., не газуй так.
– Это моя ночь! Моя ночь!
– Да, Ф., да. В конце концов, ты своего добился: стал членом парламента.
– Теперь буду вращаться в светском обществе.
– Ф., сбрось газ. Все хорошо в меру.
– Я никогда газ не сбрасываю, когда он у меня стоит, как сейчас.
– Господи! Никогда его таким здоровым не видел! Что у тебя в голове творится? Что у тебя на уме? Расскажи, пожалуйста, как это у тебя получается. Можно я его подержу?
– Нет! Это между мною и Господом.
– Давай машину остановим. Ф., я люблю тебя, люблю твою силу. Всему меня научи.
– Заткнись. Там крем от загара в бардачке лежит. Нажми большим пальцем на кнопку, и крышка отскочит. Ты там поройся за картами, перчатками, шнурами всякими и достань тюбик.
Отвинти крышечку и выдави мне в ладонь пару дюймов крема.
– Так, Ф.?
– Да.
– Ф., только глаза не закрывай. Хочешь, я за руль сяду?
Это же надо, какую он жирную башню массировал! С тем же успехом я мог обращаться к темному пейзажу, который мы оставляли в кильватере, зданиям ферм и тусклым дорожным знакам, отскакивавшим от крыльев машины, когда мы подобно циркулярной пиле рассекали белую разделительную полосу шоссе на скорости девяносто миль в час. Его правая рука, сжатая под рулевым колесом, работала все быстрее и быстрее, казалось, он как натужный пароход-грузовоз из кожи вон лезет, чтобы поскорее добраться до своей далекой ночной гавани. Как чудесно выбивались волосы из его белья! Его запонка поблескивала в свете лампочки на приборной доске, которую я включил, чтобы лучше следить за деликатной операцией. Когда его сжатая рука стала двигаться вверх и вниз еще быстрее, стрелка спидометра подпрыгнула к отметке девяносто восемь. Меня просто на части разрывали страх за собственную шкуру и желание просунуть голову между его коленями и приборной доской! Вжик! – фруктовый сад отскочил назад. Главная улица вспыхнула в свете фар – и осталась тлеть золой позади. Аж губы дрожали, как меня тянуло к маленьким морщинкам на его напрягшейся мошонке. Внезапно Ф. так резко зажмурил глаза, как будто ему в них лимон выжали. Его кулак с силой стиснул бледный скользкий столп, дыхание стало резким и прерывистым. Я боялся за его член, боялся и желал его, он так натужно торчал в слабом свете лампочки, обтекаемый, как скульптуры Бранкузи [38], – набухшая головка покраснела и разогрелась, как шлем пожарного при исполнении. Мне хотелось, чтобы язык у меня стал, как у муравьеда, и мог слизнуть влажную жемчужинку, которую заметил и Ф., резким, довольным движением присовокупив ее к остальной смазке. Мне больше было невмоготу переносить собственное одиночество. В охватившей меня безумной страсти к самому себе я чуть не оторвал пуговицы своих старомодных европейских брюк. Руку мою наполнил столб стоячей крови. Вжик! – стоянка автомобилей мелькнула и исчезла. Даже сквозь кожу перчатки, которую у меня не было времени снять, я ощутил сжигавший меня жар страсти. Жуки-камикадзе бились о лобовое стекло. Вся моя жизнь наполняла мне руку, все ее надежды и чаяния, о которых я молил знаки зодиака, собрались в ней, чтобы начать восхождение, и я застонал от переполнявшего меня предвкушения блаженства. Ф. нес какую-то околесицу, брызжа во все стороны слюной.
– Поверни ко мне лицо, смотри в глаза, в глаза смотри, соси сильней, соси быстрей, – взвывал Ф. (не уверен, что правильно запомнил его галиматью).
Если бы в ту секунду кто-то глянул на нас со стороны, то увидел бы двух обалдевших от механического экстаза мужиков, несущихся в нацеленной на Оттаву стремительной стальной скорлупке по исконно индейским землям, пропадавшим сзади во тьме, два тугих члена, направленных в бесконечность, две обнаженные капсулы, полные слезоточивым газом одиночества, призванным пресечь бунт в наших мозгах, два мощных члена, разделенных как горгульи по разные стороны башни, два больших леденца (оранжевых в свете горевшей лампочки), приносимых в жертву проносящейся под нами дороге.
– Ай-яй-яй-яй-яй! – заорал Ф. с самой вершины своего восхождения.
– Плюх-шлеп, – отозвались гейзеры его семени, расплывшись на приборной доске (звук этот был сродни тому, что слышишь, когда плывущие вверх по реке лососи разбивают себе черепа о подводные утесы).
Что касается меня, я чувствовал: еще совсем чуть-чуть – и кончу; я парил на вершине оргазма как парашютист перед свистящим дверным проемом – и вдруг я оторопел – вдруг все желание пропало – вдруг (на какую-то долю секунды) я стал таким трезвым, как никогда в жизни -
– Стена!!!
Стена заполнила все ветровое стекло, сначала как неясный, размытый контур, потом сфокусировалась так четко, будто специалист налаживал микроскоп, каждая шероховатость бетона в трехмерном измерении – ясно! отчетливо! – мгновенная картина обратной стороны луны… потом, когда стена закрыла стекла фар, ветровое стекло вновь помутнело… я увидел, как запонка Ф. едва касалась руля, как доски для серфинга…
– Милый! Эхххххххххх…
– Ррррррриииииииипппппп, – треснула стена. Мы промчались сквозь нее, потому что она была
нарисована на шелковом полотнище. Машина заплясала на колдобинах пустого поля, обрывок ткани прицепился к хромированной эмблеме «мерседеса» на капоте. Фары, как ни в чем не бывало, вырвали из темноты сколоченную из досок стойку для торговли хот-догами, Ф. ударил по тормозам. На деревянной стойке стояла пустая бутылка с дырявой крышкой. Я вперился в нее пустым взглядом.
– Ты кончил? – спросил Ф.
Мой отвислый конец вываливался из ширинки.
– Очень плохо, – сказал Ф. Меня била дрожь.
– Ты такое удовольствие упустил!
Я упер сжатые кулаки в приборную доску и уткнулся в них головой, меня душили рыдания.
– Ох, и досталось же нам, когда мы эту тряпку натягивали, стоянку арендовали, все остальное готовили.
Я резко обернулся.
– Нам? Что ты хочешь сказать этим «нам»?
– Нам с Эдит.
– Эдит была с тобой заодно?
– Как тебе понравилась эта секунда перед тем, как ты уже чуть не брызнул? Ты почувствовал пустоту? Ты обрел свободу?
– Эдит знает о том, какой мерзостью мы с тобой занимаемся?
– Тебе, дружок, надо было довести дело до конца. Ты же не за рулем сидел. И все равно ничего не мог сделать. Стена тебя накрыла. Ты лишил себя огромного удовольствия.
– Эдит знает, что мы – любовники?
Я протянул руки к его горлу, чтобы задушить до смерти. Ф. только усмехнулся. Какими тонкими и хилыми выглядели мои запястья в тусклом свете оранжевой лампочки! Ф. снял мои пальцы с шеи как бусы.
– Тише, тише, не гоноши. Лучше утри слезы.
– Ф., почему ты меня так терзаешь?
– Ну, дружок, тебе так одиноко. И с каждым днем одиночество тебя гложет все сильнее. Что с тобой станется, когда нас не будет?
– Не твое дело собачье! Как ты смеешь меня поучать? Ты – дешевка. Ты – угроза! Ты – позор всей Канады! Ты всю жизнь мою разрушил!
– Может статься, ты во всем прав.
– Тварь ты паскудная! Да как ты смеешь говорить, что я прав?
Он чуть подался вперед, включая зажигание, и бросил взгляд на мои брюки.
– Ширинку застегни. Нас ждет долгая, промозглая дорога до парламента.
Я немало уже времени потратил, описывая эти подлинные события. Приблизило меня это к Катери Текаквите? Небо какое-то совсем чужое. Не переселюсь я, наверное, ближе к звездам. Не увенчают меня лавровым венком. Не нашепчут мне призраки в теплые волосы послания Эроса. Не смогу я с достоинством пронести с собой в автобусную поездку коричневый пакет с завтраком. Пойду на похороны, но процессия в трауре не навеет памяти воспоминания. Много лет назад Ф. сказал:
– С каждым днем ты становишься все более одиноким.
Много лет назад он сказал мне эту фразу. Что Ф. имел в виду, когда советовал мне переспать со святой? Кто такие святые? Это те, кто сумел достичь предела человеческих возможностей. Но определить, каковы эти возможности, невозможно. Мне кажется, дело здесь скорее связано с энергией любви. Причастность к этой энергии выражается в обретении некоего равновесия в хаосе бытия. Святой не упорядочивает хаос; будь он в состоянии это сделать, мир бы уже давно изменился. Не думаю, что святому под силу упорядочить этот хаос даже для себя, потому что в самом утверждении о том, что человек способен навести порядок в мире, звучит воинствующее невежество. Скорее, святой способен обрести некий баланс в хаосе, который и составляет его неземное блаженство. Он объезжает сугробы как опытный слаломист. Курс, которым он следует, огибает холм по касательной. Его след прочерчен на снегу в поразительной гармонии с силой ветра и скалистым утесом. Его любовь к миру так сильна, что он отдается во власть закона тяготения и на волю случая. Он далек от того, чтобы парить с ангелами в небесах, но может с точностью стрелки сейсмографа определить все подвохи раскинувшегося перед ним вполне земного и порой опасного ландшафта. Дом его не вечен и не застрахован от опасностей, но в мире он чувствует себя как дома. Он может любить облики людей, утонченные и витиеватые образы сердца. Замечательно, что среди нас есть такие люди, такие неисчерпаемые источники любви, поддерживающие вселенское равновесие. Эта мысль позволяет надеяться на то, что разыгрываемые номера и в самом деле соответствуют номерам на лотерейных билетах, за которые мы так дорого платили, и потому выигрыш – не мираж. Но зачем же спать со святой? Я помню, как однажды целовал бедро Эдит. Я сосал и лизал это длинное смуглое чудо, сначала это было обычное бедро, но по мере того, как я двигался вверх, к магическому треугольнику, дух сырого мяса становился сильнее и бедро непонятным образом размягчалось и растягивалось, а когда я следовал направлению коротеньких волосков и спускался к коленке, бедро как-то съеживалось и деревенело. Уж не знаю, как у Эдит это получалось (может быть, так действовала магия какой-нибудь ее замечательной притирки), или я что-то особенное делал (не исключаю, что такой странный эффект вызывала моя слюна), но внезапно лицо у меня увлажнилось, и рот заскользил по коже; не было уже ни бедра, ни промежности, ни шалости школьника, написанной мелом на классной доске (и я с ней еще не был близок): был просто образ Эдит; потом он стал просто человеческим обликом, и на какую-то благословенную долю секунды тоска одиночества отступила, я ощутил, что стал частью семьи. Это произошло, когда мы в первый раз занимались с ней любовью. Больше такого не случалось никогда. Ты позволишь мне снова испытать это чувство, Катерина Текаквита? Но разве ты не умерла давным-давно? Как же мне переспать с мертвой святой? Домогательство такого рода – чистой воды абсурд. Несчастлив я здесь, в старом бревенчатом доме Ф. Лето давно прошло. Мозг мой разрушен. Все мои труды пошли насмарку. Неужели, Ф., это тот урок, которой ты для меня приготовил?