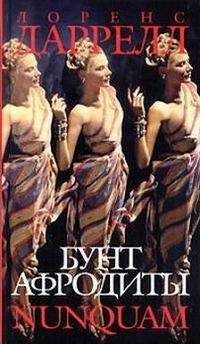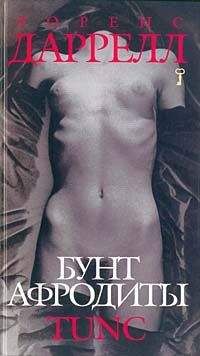Она сказала это с такой обезоруживающей откровенностью, что я едва не начал жалеть о том, что сей «благородный человек» посягнул на безупречную юную жизнь, которой мы наслаждались в номере седьмом. Перед глазами мелькали, словно быстро тасуемые или разворачиваемые веером красочные открытки, картины Афин, связанные исключительно с ней. Вот она покупает рыбу, или пасхальные ленты, или разноцветные книжонки с текстами к представлениям театра теней, вот плавает в пещере, и распущенные волосы тянутся сзади по воде.
— Нет, новость правда замечательная.
Она сощурила смеющиеся глаза, почувствовав облегчение.
— И потом, это может принести пользу и в других вещах. Он очень влиятельный человек.
Я не очень представлял, в каких таких других вещах может принести пользу подобная переуступка.
— Кто он такой? Ты знаешь?
— Нет, пока. — Это, конечно, была ложь.
Беда с воспоминанием и его неотвязным самовоскрешением в мельчайших подробностях не в том ли, что оно всегда может обойти те потенциально опасные места, где ему грозит временное стирание? Не самозащита ли — желание «причесать» его, как растрёпанные волосы? На память пришли головы нескольких турок-предателей, так тщательно приготовленные для всеобщего обозрения, — волосы помыты и завиты, бороды напомажены, глазницы помассированы с кремом содрогающимися от ужаса греками-брадобреями. Или усохшие головы в бутылях со спиртом, которые до сих пор в горных селениях Тауруса стоят больших денег как талисманы. Да, и среди этих мимолётных видений другое — поблёкшее видение Ио на её острове, помогающей старику отцу убирать кукурузу на его крохотном поле. Она в один миг могла бросить город со всей его фальшивой изысканностью и вернуться к здоровой сельской жизни и надёжному крестьянину. Однажды, будучи в отпуске, я увидел её идущей босиком по просёлочной дороге, с головы до ног в бронзовой пыли, с цветком мака в зубах. Успех в её представлении — это стать содержанкой богача, чтобы помогать маленькому человеку с морщинистым, как грецкий орех, лицом, который трудится на склоне холма под пылающим солнцем, среди полосатых гадюк. Ключ от душной виллы в Панкрати был верным средством, которое могло бы привести её домой, хотя и не раньше, чем она вынесет все превратности и лишения, которые влечёт за собой положение чьей-то полной собственности. Через несколько месяцев появляется, одетая как типичная кокотка, в широком шарфе и при тёмных очках, чтобы объявить, что уезжает, — по всей видимости, проданная какому-то состоятельному клиенту на Ниле. Нет-нет, кое-что получше, намного лучше.
Потом, в манере, характерной для комичной стороны афинской жизни — её аристофановской простоты: «Ох, не могу сидеть, любит побаловаться плёткой, этот последний».
Я не поехал обратно в Наос до тех пор, пока неделю или две спустя меня не призвали; по какой-то странной реакции подсознания ни словом не обмолвился я и о Сиппле, и о моём посещении его квартиры. Ипполита тоже молчала. Никакого упоминания о случившемся, и это самое непонятное, не мог я найти и в газетах, которые самым внимательным образом просмотрел в читальном зале местной библиотеки. Ни слова, ни намёка. Должён ли я предположить, что всё это было дурным сном? Ипполита была одна в неприбранном доме, лежала, чуть ли не до пояса заваленная газетами, щёки горят, в голосе торжество. Она обняла меня с необъяснимым благоговением, молитвенной нежностью — ну точно как православные крестьяне прикладываются к иконе.
— Графос! — закричала она, и на её чёрные, как у дрозда, глаза навернулись слёзы. — О, ты только взгляни. Ты это читал? — Я не читал. Пресса была полна восторгов. — Это его самая великая речь — все Афины потрясены. Он снова воспрял.
Эти эзотерические превратности афинской политичёской жизни не имели ко мне никакого отношения; во всяком случае, так мне тогда казалось.
— Да ты не понимаешь. Его партия в один момент преобразовалась. Теперь он наверняка победит на осенних выборах, и это спасёт положение.
— Чьё положение? Какое положение?
— Наше, глупый.
Она дрожащей рукой налила мне выпить, роясь в ворохе газет с яркой многоцветной печатью, во всех — крупные заголовки с именем Графоса, во всех шаржи на Графоса, фотографии Графоса.
— Он хочет встретиться с тобой, поблагодарить тебя. Он примет тебя в любое удобное для тебя время.
И он в самом деле принял меня — в одном из кабинетов министерства, где были высокие потолки, блистающий лаком паркет и прекрасные белуджийские ковры на полу, — более того, принял, сидя за внушительным столом розового дерева, на котором ничего не было, кроме чистого пресс-папье и его собственной серебряной зажигалки. Стол был из тех, что используются только в редких случаях для подписания соглашений. Вблизи он оказался бледней, немощней и намного печальней, чем я его себе представлял, — но этот немощный человек обладал энергией калильной лампы. Он хотел видеть меня, чтобы выразить признательность, но, кроме того, им двигало любопытство. Коснувшись уха заострённым пальцем, он спросил, знает ли кто ещё о моих изобретениях, и предпринял ли я какие-то шаги, чтобы получить от них выгоду. На этот счёт у меня были только смутные мысли — сначала нужно довести идею до ума…
— Нет, нет, — решительно сказал он, от возбуждения не усидев за столом. — Дорогой мой друг, не упустите своего шанса. Это может принести вам состояние; вы обязаны как-то защитить себя.
Его беглый французский лучше, чем английский, подходил его горячей натуре; думаю, у него на основании моего о себе рассказа, должно быть, составилось неверное представление обо мне, потому что моё напускное безразличие задело его.
— Умоляю вас, — сказал он, — позвольте мне, в знак моей вам признательности, познакомить вас с моими коллегами, которые рады будут помочь поставить ваше дело на прочные рельсы. Убеждён, вы не должны что-то потерять на этом изобретении. Или я должен просить Ипполиту убедить вас? Прошу, подумайте.
Я признался, что, на мой взгляд, он несколько преувеличивает, непонятно, что я могу потерять?
— Вы можете хотя бы рассмотреть их предложения; если примете, то окажетесь полностью защищённым. У этого устройства большое будущее.
Я поблагодарил его и согласился.
— Позвольте, я сам возьмусь за это дело и отправлю вас на несколько дней в Полис, там вы встретитесь с ними и всё обсудите. Мне это нетрудно; но по крайней мере душа моя будет спокойна. Я ваш должник, сэр.
Мне, правда, было немного непонятно, отчего я колебался, принять или нет предложение Графоса. Верно, где-то сидела смутная мысль самому запатентовать устройство, может быть, получить лицензию на его использование; но было несколько соображений против. Во-первых, это, пожалуй, испортило бы всю шутку, а во-вторых, я не мог быть уверен, что кто-то уже не придумал другие подобные устройства — идея-то лёжала на поверхности. Но Графос сразу отмёл эти соображения как безосновательные, заметив, что за неделю он сможет всё выяснить и дать профессиональное заключение. Что ж, на этом мы и порешили, но, прежде чем уйти, я поздравил его, несколько льстиво, с речью, которой сам не читал. Он поморщился и смутился, и я вдруг понял, каких усилий должно было стоить этому застенчивому, сдержанному и дисциплинированному уму посвятить себя общественной деятельности. У него была душа филолога, а не демагога. К примеру, когда я заговорил о поэзии, которую якобы обнаружил в этой речи, он закрыл ладонями уши и запротестовал:
— Какая там поэзия, обыкновенная риторика. Одной поэзией не убедишь. Вообще говоря, я всегда относился к поэзии с некоторым подозрением после того, как прочёл, что Рембо упорствовал в желании носить в Лондоне цилиндр. Нет, наши задачи скромней. Если мы снова победим, то будем пытаться доказать только одно: что ключ к политическому зверю — щедрость. На что надежда, согласен, слабая. — И он улыбнулся своей слабой печальной улыбкой. Его острые мелкие зубы были скошены внутрь, как шипы у ловушки для омаров. — Так вы согласны ехать? — Я утвердительно кивнул, и он вздохнул с неподдельным облегчением и встал, чтобы удивительно горячо пожать мне руку. — Вы не представляете, какое это для меня удовольствие познакомить вас с моими коллегами; даже если ничего из этого не получится, я буду чувствовать, что исполнил свой долг. Разумеется, никакого подтверждения от фирмы вам не понадобится.
В голубом сиянии залитых солнцем Афин, казавшемся столь плотным и осязаемым, я был не в состоянии осознанно принять никакого решения, и уж тем более важного. Ипполита спала в плетёном кресле под ворохом триумфальных газет, улыбаясь во сне, как метательница копья, поразившая цель. Сидящий возле неё Карадок приложил палец к губам и улыбнулся. Было ещё рано, летали пчёлы, мокрые от росы, которою были полны цветы. «Оливковая ветвь, прибитая к двери всемирного трактира». Далеко в гавани призывно кричали пароходы, и эхо их сирен игриво шлёпало крутозадые волны звука, летевшие от одного стального борта к другому.