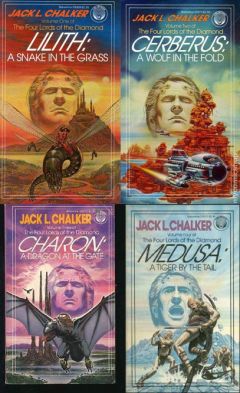И так Ампаро разговаривала со мной по дороге в Кампече. Ну, сначала я добрался на барке до Юкатана, где взял напрокат повозку с кобылой, и поехал через три штата, чтобы попасть в Кампече. И когда на последней границе показывал документы, один сеньор вот что мне сказал: «И что же это вы надумали ехать в Кампече, где есть своя рыбная фабрика? Кто же это вас надоумил? Эту вашу рыбу всю, наверное, придется выбросить!» Я очень тогда посерьезнел, поскольку было много правды в словах сеньора. Возможно, в сердцах я ответил что-то неучтивое моей Ампаро. Не знаю, как это получилось, но она потом долго молчала, лет двадцать.
Но что же мне было делать? Оставалось доехать-таки до Кампече и попытаться. У меня было две породы рыбы – паргомолате и моххара. Для моххары, я слыхал, всюду хороший рынок. Приехав в Кампече, я сразу пошел в ресторан «Атлантида», о котором упоминала Ампаро. Я был знаком с его хозяином сеньором Фернандо Гамбоа. Теперь он работал вместе с сыном. Оба глядели на меня и на мою рыбу, которой было три тонны, и вроде не понимали, в чем дело, чего я от них хочу. Они молчали, а потом говорили меж собой по-французски. Было видно, что они в большом сомнении, и длилось оно очень долго, так я сейчас думаю. И я уже видел, что им не нужна моя рыба – ни паргомолате, ни моххара – но не верил, что Ампаро могла ошибиться.
И вот что вдруг сказал сеньор Фернандо: «Назначь цену на твою рыбу. И прямо сейчас я куплю все. Немедленно. Подпишу чек, потому что сегодня воскресенье». Затем они вместе прикинули, что почем, и выдали мне чек. Сначала я очень радовался и благодарил сеньора Фернандо Гамбоа и его сына, не помню, как звали. Но пока дожидался следующего дня, когда откроются банки, я был, как натянутая струна, готовая лопнуть, так боялся, что не примут этот чек. Почти сутки у меня на душе лежал тяжелый камень, и я измучился с ним. Уже получив деньги у кассира, я еще с полчаса ходил с этим камнем по привычке, так я сейчас думаю.
Заработал я тогда немного, если посчитать поездку через три штата и обратную дорогу. Но я очень изменился от этого опыта и от беседы с Ампаро. Зажил легко и без огорчений. У меня много чего с души свалилось. Не знаю, почему так случилось, не могу сказать. Мне сложно выразить тонкие чувства. Ощущаю, а высказать не умею. Это такое состояние – вроде когда очень хочешь чихнуть, да никак. В этом есть небольшая мучительность, от которой даже приятно.
Возвращаясь из Кампече, я время от времени окликал Ампаро и говорил ей приятные слова. Тогда я не знал, что она умолкла на двадцать лет. Она, видно, хотела, чтобы я пожил своим умом.
Я остановился на Плайе дель Кармен, откуда прямой путь через море до нашего острова Чаак. И случайно попал на свадьбу, где кумом был наш губернатор дон Авелардо Мадрид. Церковь, в которую я зашел, была переполнена, и я услышал, как один мальчик сказал: «Знаете, кто здесь в парке перед храмом? Наш губернатор дон Авелардо!»
Но я, конечно, не бросился прямо к нему, а прошелся стороной, нюхая цветы бугамбилий. Но дон Авелардо вдруг меня заприметил и окрикнул: «Дядя, где ты тут ходишь!?» И когда он уважил мое рукопожатие, то сказал: «Дядя, тут место не рукопожатиям, а дружескому объятию!» Вот так он сказал при всех в парке, а потом пригласил меня на ужин.
Дон Авелардо всем управлял, поскольку был не только губернатором, но и кумом на свадьбе. Он уже выпил, наверное, немало, но держал себя с большим достоинством. Один сеньор по имени Могель, наш земляк, подсказал мне, чтобы я рассказал какую-нибудь историю из веселых – позабавить дона Авелардо. Я подумал и начал рассказывать, как ездил в Кампече продавать рыбу. И эта история выходила очень смешная. К тому же, нанюхавшись бугамбилий, я чихал через слово. Все думали, что это такое нарочное представление, и забавлялись от души. В том числе дон Авелардо Мадрид, наш губернатор. Он хохотал до слез и говорил: «Дядя, проси у меня, чего хочешь!» Но я, помню, только чихал и ничего не просил.
Это был последний раз, когда я видел моего племянника. Его лицо еще больше отяжелело, и оно, было заметно, поглощало свет. Меня удивило и озадачило, но лицо дона Авелардо напоминало большую крысу в полный рост, такую черную, как камень, от которой может дрожать земля. И оно поглощало свет, так я сейчас думаю, хотя не могу объяснить почему.
Потом мне попадались фотографии этого лица в газетах. Они были обычными фотографиями лица, которое принадлежало моему племяннику. В последних газетах писали, что дона Авелардо Мадрида, бывшего губернатора, разыскивают по всей стране и за пределами, что он много в чем замешан – наркотики, оружие, земли, большие доллары. И я понимал, что все это от слабости силы воли. Это стало ясно еще после урагана Жанет. Ко мне приходила федеральная полиция. Они обыскали мой дом. Заглядывали в расписной сундук, на котором обычно в сезон дождей и ураганов укрывается юная крыса, – нету ли там дона Авелардо? Но я не видел его со времен той свадьбы, когда мы дружески обнялись. Наши полагают, что его уже нет на этом свете, а если он где-то скрывается, то вряд ли на острове Чаак. Как тут скроешься?
Меня забавляет эта юная крыса, которую я зову дон Авелардо. Она внимательна к моим рассказам. А я подкармливаю ее чем могу. Пускай хоть кто-то слушает меня, когда за окном ураганный ветер.
– Кукурукуку, па-а-а-ало-о-ома! – поет дон Томас Фернандо Диас, красиво и грустно, и правда похоже, будто голубка тоскует в ночи, плачет на берегу Карибского моря. – Кукурукуку, но йо-оо-орес!
«Не плачь, голубка, – воркует дон Томас, сидя в лунной тени. – Камни, голубка, никогда не поймут твоей любви – уже не плачь, голубка!» Эта старая баллада для жены дона Томаса, для его толстушки Ампаро, мир ее праху. Впрочем, толстушкой-то она никогда не была. Все наши, любя, называют друг друга «толстячок» или «толстушка» – гордита. Это в смысле – самый главный.
Полуночные ныряльщики с фонарями, от которых бродят по воде круги призрачного, как люсьернаго, света, выходя из безмолвного моря, где разглядывали коралловые рифы и сонных рыб, замирают на миг – им кажется, что поет кокосовая пальма. Мало ли чего бывает на острове Чаак! Но это просто дон Томас Фернандо Диас. У него в голове, известно, сто сорок песен. Изредка дон Томас отвлекается от них. Особенно «Голубка» вкупе с полной луной приводит к воспоминаниям.
– До моей гордиты Ампаро я не имел опыта с девчонками. Так получилось, не знаю, почему, – говорит дон Томас. – Лучше сказать, был маленький опыт с одной девчонкой-мучачитой, которая приехала с Кубы.
Она бежала оттуда вместе с родителями, бабушкой и коробками сигар. Они хотели во Флориду, но потерялись в море. Так их баркас прибило к нашему острову.
Родители мучачиты сразу открыли сигарную лавку, поскольку за хорошую, настоящую кубинскую сигару, вроде «Ромео и Хульетта», гринго платили большие деньги.
В те времена на Кубе уже случилась их революция. И вот тогдашний президент гринго запретил вообще торговлю с Кубой. У него сложились плохие отношения с Фиделем Кастро, не знаю, не могу сказать, по какой причине. И вот он запретил общаться с этим островом, но предварительно, тайком от всех, выписал для себя лично тонну лучших кубинских сигар. Он любил, этот президент гринго, не помню сейчас, как его звали, выкурить хорошую сигару, замочив кончик в стакане виски. Хотя вскоре его застрелили из нескольких винтовок. И он, конечно, вряд ли успел покурить вдоволь кубинских сигар. Так бывает часто. Напасешься на всю жизнь, до старости, а жизни-то всего неделя или месяц.
Словом, простые гринго очень скучали без хороших сигар, и когда приезжали отдохнуть на наш остров, просто набрасывались на кубинские, платя любые деньги.
И вот родители мучачиты, о которой я рассказываю, устроились безбедно. Их девчонка торговала в лавке, а сами они пели и плясали в дорогом ресторане «Дон Пепе». Даже бабушка, которая, в отличие от всей семьи, была черной, выступала с куплетами «Доступная негра» и била в тамбор. Наши вообще хорошо относились к кубанос и к их революции, потому что сочувствовали.
И многие заглядывались на мучачиту-кубану по имени Кончита. Она ходила в платье алого цвета, который можно увидеть только по краям закатных облаков. А фигура ее напоминала и длинноногую кокосовую пальму, и дельфина, и обкатанные прибоем валуны, и розовых фламинго, и белку-ардийу, и нежную голубку-палому. Лучше сказать, куда бы я ни поглядел в ту пору, все напоминало о Кончите – тем или иным боком или свойством.
Было заметно, что у нее под платьем вовсе нет никакой другой одежды. И она ходила так свободно, будто красный олень в сельве.
Когда Кончита продавала сигары, гринго от восхищения переплачивали – пару долларов за созерцание. Они, так я сейчас думаю, локти себе кусали, что их президент порвал с Кубой. И конечно, не только из-за сигар.
Не помню, не могу сказать, как это у меня получилось, но однажды я пригласил Кончиту в пляжный ресторанчик «Игуана». Иногда я совершал поступки, которых от себя не ожидал.