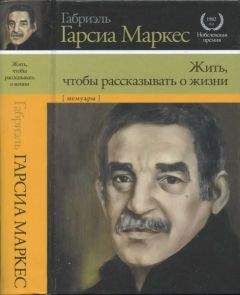Моим первым шагом в реальную жизнь было открытие футбола посреди улицы или на каких-нибудь соседних плантациях. Моим учителем был Луис Кармело Корреа, который родился с личным спортивным инстинктом и наследственным талантом к математике. Я был на пять месяцев старше его, но он шутил надо мной, потому что рос гораздо быстрее меня. Мы начали играть мячами из лоскутов, и я достиг того, что стал хорошим вратарем, но когда мы перешли на правильный мяч, я пострадал от удара в живот от такого мощного его броска, что даже ощутил гордость. В моменты, когда мы встречались уже взрослыми, я с большой радостью убеждался, что мы продолжаем обращаться друг с другом так же, как когда были детьми. Однако самым моим впечатляющим воспоминанием о той поре был мимолетный проезд директора банановой компании на роскошном открытом автомобиле рядом с женщиной с длинными золотистыми волосами, развевающимися по ветру, и с немецким пастором, восседавшим, словно король на почетном месте. Они были моментальными проявлениями далекого и неправдоподобного мира, который был запретным для нас, смертных.
Я начал прислуживать на мессе без чрезмерного легковерия, но со строгостью, о которой мне говорили, что это, пожалуй, основная составляющая веры. Должно быть, по причине этих добродетелей меня привели в шесть лет к падре Ангарита, чтобы приобщить к таинству первого святого причастия. Жизнь моя поменялась. Со мной начали обращаться как со взрослым, и старший ризничий учил меня прислуживать на мессе. Моей единственной проблемой было то, что я не мог понять, в какой момент я должен был звонить в колокол, и я звонил, когда придется, по чистому и простому вдохновению. На третий раз падре обернулся ко мне и приказал мне сурово, чтобы я в него больше не звонил. Хорошей частью ремесла было, когда другой служка, ризничий и я оставались одни, чтобы привести в порядок ризницу, и мы ели оставшиеся облатки со стаканом вина.
Накануне первого причастия падре исповедал меня без предисловий, сидя, как настоящий папа на тронном кресле, и я на коленях перед ним на плюшевой подушке. Мое понимание добра и зла было довольно простым, но падре помог мне вместе со словарем грехов, чтобы я ответил, какие я совершал, а какие нет. Он полагал, что я отвечаю хорошо, пока он не спросил меня, не совершал ли я грязных действий с животными. У меня было смутное понятие, что некоторые старшие совершали с ослицами грех, который я никогда не понимал, но только тем вечером я узнал, что такое тоже возможно с курицами. Таким образом, мой первый шаг к первому причастию был еще одним большим скачком в потере невинности, и я не нашел никакого стимула, чтобы оставаться служкой.
Мое испытание огнем было, когда родители переехали в Катаку с Луисом Энрике и Аидой, моими братом и сестрой. Марго, которая едва вспомнила папу, была от него в ужасе. Я тоже, но со мной он всегда был более осторожным. Только однажды он снял ремень, чтобы выпороть меня, и я выпрямился в позиции выдержки, закусил губы и раскрыл глаза, готовые перенести происходящее, не заплакав. Он опустил руку и надел ремень, ругая меня сквозь зубы за то, что я сделал. Позже в наших пространных взрослых разговорах он мне признался, что ему было очень больно нас пороть, но он делал это только из страха, что мы вырастем несчастными. В хорошие моменты он был веселым. Ему нравилось рассказывать забавные истории за столом, и некоторые были очень хороши, но он их повторял столько, что однажды Луис Энрике поднялся и сказал:
— Сообщите мне, когда все закончат смеяться.
Однако знаменательная порка произошла вечером, в который Луис Энрике не появился ни в доме родителей, ни в доме дедушки, и его долго искали, пока не обнаружили в кино. Сельсо Даса, продавец прохладительных напитков, налил ему один из сапоты в восемь вечера, и он исчез вместе со стаканом и не расплатился. Продавщица уличной еды продала ему пирог и видела его немного времени спустя, когда он разговаривал с привратником кинотеатра, пустившего его бесплатно, потому что он наврал, что его внутри ждет отец. Шел фильм «Дракула» с Карлосом Виллариасом и Лупитой Товар режиссера Джорджа Мелфорда. В течение многих лет Луис Энрике рассказывал мне о своем ужасе в момент, когда граф Дракула начал вонзать клыки вампира в шею красавицы, а в кинотеатре вдруг зажегся свет. Он находился в самом укромном месте, на балконе, там были свободные места. Он не окликнул папу и дедушку, которые прочесывали ряд за рядом вместе с владельцем кинотеатра и двумя полицейскими. Они едва не сдались, когда Папалело вдруг нашел его на последнем ряду балкона и помахал палкой: — Он здесь!
Папа крепко схватил его за волосы, и порка, которую он задал ему дома, осталось как легендарное наказание в истории семьи. Мой ужас и восхищение тем актом независимости моего брата остались навсегда в моей памяти. Но он, казалось, все переносил каждый раз более героически. Тем не менее и сейчас меня интригует, что его непокорность не проявлялась в те редкие моменты, когда папы не было дома.
Я укрывался больше в тени дедушки. Всегда мы были вместе, по утрам в мастерской или в его кабинете управляющего имением, где он нашел мне счастливое занятие: рисовать клейма для коров, которых собирались забить, и воспринимал это с такой серьезностью, что уступил мне свое место за письменным столом. На обеде со всеми гостями мы с ним сидели во главе стола, он со своим большим кувшином из алюминия для холодной воды, и я с серебряной ложкой, которая служила мне для всего. Он обратил внимание, что если я хотел кусочек льда, то засовывал руку в кувшин, чтобы достать его, и на воде оставалась пленка жира. Бабушка меня защищала: «Он имеет все права».
В одиннадцать часов мы шли встречать поезд, потому что его сын Хуан де Дьос, который жил в Санта-Марте, посылал ему каждый день письмо с дежурным кондуктором, получавшим за это пять сентаво. Дедушка отвечал с помощью еще пяти сентаво с обратным поездом. Вечером, когда садилось солнце, он вел меня за руку по своим личным делам. То в парикмахерскую, которая находилась в четверти часах пути от дома, самого длинного в детстве, то смотреть на салют, от которого я пугался, во время национальных праздников, то на процессии Святой недели, с мертвым Христом, в моем детском воображении состоящим из человеческой плоти. Я носил тогда кепку в шотландскую клетку, такую же, как у дедушки, которую Мина купила, чтобы я больше походил на деда. И так хорошо мне это удалось, что дядя Кинте видел нас как одного человека в разных возрастах.
Выбрав на свое усмотрение то или иное время дня, дедушка вел меня за покупками в аппетитный комиссариат банановой компании. Там я узнал, что такое окунь, и впервые потрогал рукой лед, и меня потрясло открытие, до чего он был холодный. Я был счастлив попробовать все, что мне заблагорассудится, но мне надоедали партии в шахматы с Белгой и разговоры о политике. Теперь я осознаю все же, что в тех долгих прогулках мы видели два разных мира. Дедушка видел свой на своем горизонте, и я видел свой, на уровне моих глаз. Он приветствовал своих друзей на балконах, а я страстно мечтал об игрушках, выставленных торговцами на тротуарах.
В первый вечер мы задержались во всеобщем шуме на Четырех Углах, он, болтая с доном Антонио Даконте, который встретил его, стоя в дверях своей пестрой лавки, и я, изумляясь новинкам со всего мира. Меня сводило с ума, как фокусники с ярмарки вытаскивали кроликов из шляп, глотали горящие свечи, как чревовещатели заставляли говорить животных, как аккордеонисты громко пели о том, что произошло в Провинции. Сегодня я осознаю, что один из них, очень старый и с белой бородой, мог быть легендарным Франсиско эль Омбре.
Каждый раз, когда фильм ему казался подходящим, дон Антонио Даконте приглашал нас на ранний сеанс в свой салон «Олимпия», к прискорбию бабушки, которая считала это неподобающим развратом для невинного внука. Но Папалело настаивал и на следующий день заставлял меня рассказать фильм за столом, поправлял мои ошибки и забытые моменты и помогал мне восстановить непередаваемые эпизоды. Это были начатки драматического искусства, без сомнения, мне чем-то послужившие, особенно когда я начал рисовать комиксы раньше, чем научился писать. Сначала меня хвалили с благодарностью к малому дитя, но мне так нравились легкие рукоплескания взрослых, что те в итоге начали скрываться от меня, когда слышали, что я иду. Позже я достиг того же и с песнями, которые меня заставляли петь на свадьбах и днях рождения.
Перед тем как идти спать, мы проводили кучу времени в мастерской Белги, ужасного старца, который появился в Аракатаке после Первой мировой войны, и я не сомневаюсь, что он был бельгийцем, вспоминая его оглушительный выговор и ностальгию мореплавателя. Другим живым существом в его доме был большой датский дог, глухой и педерастичный, с именем как у президента Соединенных Штатов: Вудро Вильсон. Я познакомился с Белгой в четыре года, когда дедушка ходил играть несколько партий в шахматы, молчаливых и нескончаемых. В первый же вечер меня поразило, что в его доме не было ничего из того, что я знал и понимал, для чего оно служит. Потому что он был художником во всем и жил среди беспорядка своих собственных произведений, пастельных морских пейзажей, фотографий детей с дней рождений и первого причастия, копий азиатских драгоценностей, статуэток, сделанных из бычьего рога, старинной мебели разных стилей, сваленной в кучу.