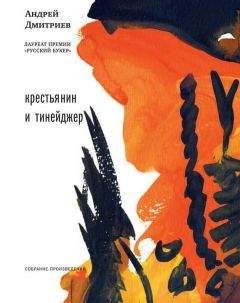«Не понял, извини: картошку им давать сырой или вареной?»
«Можно сырой, можно вареной, – терпеливо повторила Саня, но и предупредила: – Если сырой, то надо мелко-мелко порубить, а свеклу и турнепс можно давать и целиком. Но ты запомни и своему другу передай: давать им сразу свеклу и картошку категорически нельзя. Категорически, запомнил?»
«Категорически», – негромко повторил за Саней Панюков.
Они успели далеко пройти по терпко пахнущим полям, сквозь цепкое, упругое, полное ос, мух и шмелиного нытья цветастое густое разнотравье, из которого вдруг да и выглядывал и тускловатый ржаной колос; лес впереди уже был не сплошной стеной, но скопищем отдельных елей, сосен и берез, и слышно было его прелое и острое дыхание… Саня внезапно остановилась и спросила Панюкова, из-за чего такого изумительного пришлось ему тогда выстаивать большую очередь, и неужели трудно обходиться отечественными лезвиями или, например, электробритвой?
«У меня кожа на лице очень нежная, – ответил Сане Панюков, – после наших лезвий или же электробритвы она вся сразу покрывается цыпками и очень долго жжется, как от кипятка. А после лезвия голландского ей – ничего, даже приятно; словно ладошкой провели…»
Саня провела ладошкой по его лицу и сказала: «Правда, нежная».
Лес весь был перед ними; тропинка в лес была видна немного слева, всего лишь в трех шагах, за влажными кустами ежевики, и тихий шум его звал к себе, и дятла стук манил, и окликали голоса птиц, но Панюков и Саня, оробев, в лес не пошли и повернули вспять, в поля, к Селихнову.
Когда прощались у ее порога под недовольным взглядом тетки из окна, Саня спросила: «Ты когда опять ко мне приедешь?»
Панюков приехал вновь через неделю, потом и на четвертый день, потом на третий, стал приезжать и через день, и всякий раз вел Саню по тугой траве к далекой стене леса, прозрачно-сизой, будто дым, в ясные дни, и темно-бурой, как гранит, в дождливые. Дождь никогда помехой не был, наоборот, им нравилось мгновенно вымокнуть до нитки, потом идти сквозь дождь, не видя ничего перед собой, ступая, будто по болоту, по взбухшей от воды траве и ни о чем не разговаривая, поскольку шум дождя был интереснее любого разговора. В лесу дождь шумел иначе, чем в полях: гулко и дробно, как по огромной крыше, под которой хорошо бы и укрыться, – но Панюков и Саня не решались войти в лес.
И даже в зной, когда горячий воздух полупрозрачной слюдяной волной вздымался к небу, – в лес, обещающий прохладу, они не заходили; немного отдыхали на его краю в вялой тени кустарника и, не сговариваясь, шли назад через поля.
А Вова всюду рыскал в поисках коров, причем хороших, и чтоб купить их дешево и без обмана.
На племзаводе имени Рабкрина, когда-то чванном и богатом, теперь на все согласном и за маленькие деньги, после недолгих уговоров согласились выбраковать трех породистых коров – продать их по цене мяса. Вова был и рад, но не поверил. Он опасался, что на племзаводе впарят им не выбракованных на бумаге, но вдруг и впрямь бракованных коров. Вспомнил о Сане с ее дипломом зоотехника. Упрашивать Саню не пришлось, и она вскоре вместе с ним и Панюковым отправилась на племзавод на нанятом грузовике. Там росли вразброс огромные дубы, а в их тени стояли неподвижно, как памятники самим себе, огромные быки. Быки паслись и на большом лугу, залитом солнцем. С луга навстречу покупателям коров вышел директор племзавода в глухом плаще не по сезону. Сам разговаривать не пожелал, направил их к ветеринару, плащ поплотнее запахнул и по жаре пошел назад, на луг, к своим быкам.
Ветеринар был немного пьян. Умело напевая на ходу и самому себе старательно подсвистывая, он повел гостей в коровник и показал им трех коров, которых сам выбрал, сам и выбраковал на продажу.
«Швицы, – сказала Саня. Всех трех солидно осмотрела, ощупала подробно, претензий никаких не высказала и похвалила сдержанно: —А что? Вполне хорошие швицы».
«Да, – согласился с нею ветеринар, – очень хорошие, вполне здоровые швицы, – и объяснил – не ей, а тем, кто ничего не понимает: – Швиц – это швейцарская порода. Швиц по-швейцарски – это ведь и есть Швейцария. – И снова обратился к Сане. – Куда вы их, коллега?»
Саня чуть фыркнула, услышав от него знакомое, но непривычное ей слово. Ответила: «В Пытавинский район».
«Вы из Пытавина?» – спросил ветеринар.
«Я не в самом Пытавине живу – в Селихнове».
«Пытавинский район – не в вашей области; отсюда далеко», – ревниво охладил ветеринара Панюков.
«Я знаю, я бывал в Пытавине, – сказал ветеринар, – а вот в Селихнове ни разу не был… Еще увидимся, коллега!» – прощаясь, крикнул он, когда ревущих от уныния и страха трех коров уже загнали в кузов.
Вова сел в кабину рядом с водителем. Саня сама вызвалась ехать в открытом кузове вместе с коровами и Панюковым и всю обратную дорогу вид имела удрученный. Панюков решил, что ее мучит беспрестанный и истошный рев коров.
«Ты потерпи», – крикнул он ей. Она, тоже крича, ответила, что рев коров ей совершенно нипочем, просто ей грустно стало. Она мечтала получить распределение на этот знаменитый племзавод, да не сбылось: «Туда берут, наверно, только очень опытных. Тот зоотехник, сразу видно, очень опытный».
«Я думал, он ветеринар», – сказал Панюков.
«Это почти одно и то же, но не совсем. Вообще-то зоотехники и ветеринары друг друга сильно достают, да и не любят. Но это – другой случай, – пояснила Саня. Больше она не грустила, и всю оставшуюся часть пути успокаивала коров. Похлопывала каждую по шее, гладила по лбу, по ушам, поглаживала светлый пух вокруг ноздрей, покрикивала: —
Будет, будет, не дурите; все у вас будет хорошо», – но коровы реветь не прекращали.
Взявшись научить Панюкова и Вову обращению с ними, Саня приезжала в Сагачи каждый день, но никогда не оставалась на ночлег, даже и при том, что Вова всякий раз готов был перебраться к Панюкову и предоставить ей свою избу. Говорила, надо в Селихнове присматривать за теткой, но Панюков, пусть смутно, пусть и не находя своей догадке нужных слов, все же уверенно догадывался: дело тут не в больной тетке – дело в той же невидимой препоне, в необратимой той запинке, не позволявшей Сане никогда, дойдя до леса, войти в лес.
Прогулки к лесу прекратились, но Панюков берег их в себе. Каждый вечер, проводив Саню к автобусу, он принимался вспоминать их сам с собой наедине. Вспоминал подробно, потом домысливал. В его домыслах Саня все же входила в лес. И лес был не таким, каким знал его Панюков, излазив с детства всю его болотистую чащу: не темным и сырым, заваленным гниющим буреломом, – но вовсе незнакомым, светлым и просторным лесом, прогретым солнцем, что льется на сухую бронзу мха; и тот нездешний лес был без теней, и Саня в нем далеко была видна. Она убегала далеко вперед, в светлую чащу, мелькая очень ярким платьем меж очень ярких сосен; Панюков догонял ее бесшумными шагами, брал за плечи и, повернув к себе, смотрел в лицо, – тут он, запнувшись, прекращал домысливать, ни разу не отважившись зайти в тех домыслах хотя б немного дальше.
Однажды Саня привезла в Сагачи ветеринара племзавода имени Рабкрина. Сказала весело, но и растерянно: «Смотрите, кого я встретила в Селихнове».
Ветеринар пояснил, весело извиняясь: «Это я попросил коллегу взять меня с собой. Гляну на моих швицев; может, чем и помогу».
Глянул, остался доволен. Думал, ему нальют, как гостю, и затуманился, узнав, что выпивки нет. Заторопился хмуро на автобус. Уехал один.
«Как он попал в Селихново?» – спросил Панюков.
Саня ответила: «Он теперь в Пытавине живет. С племзавода, говорит, его уволили, и он теперь в Пытавине – ветеринаром… Я и не знаю, чего он приезжал в Селихново».
«Будто и не знаешь», – сказал Вова.
«Не знаю, может и ко мне, – не стала спорить Саня. – Но он мне ничего такого не сказал».
В тот вечер, посадив Саню на автобус и оставшись сам с собой наедине, Панюков впервые забыл вспомнить и домыслить их прогулки к лесу; пришел домой в тревоге.
Больше в Сагачах ветеринар не появлялся. Панюков так и не решился выведать у Сани, бывает ли ветеринар в Селихнове. Она ни разу, приезжая в Сагачи, не говорила о ветеринаре, будто и не думала о нем, но Панюкова это умолчание не успокаивало, только сильней тревожило.
Однажды Саня, как всегда пообещав приехать, не приехала. И на другой день ее не было, и не было на третий, на четвертый. На пятый день Панюков уже не находил себе места. Он был так нервен, что коровы не подпустили его к себе; всех трех пришлось доить одному Вове.
«Нельзя так психовать, – сказал Вова. – Езжай в Селихново, узнай, чего там у нее».
«И не подумаю», – ответил гордо Панюков, на самом деле опасавшийся застать ее с ветеринаром.
«Это – как хочешь, – сказал Вова и не удержался от подначки. – Пока мы тут коровам титьки тянем, кто-то ее за титьки тянет…»