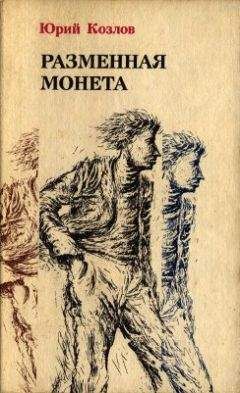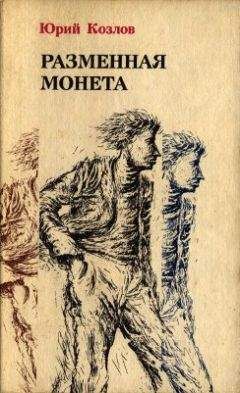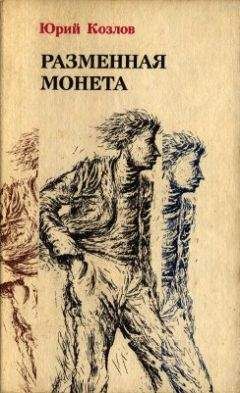Впрочем, кого нынче удивишь издевательствами?
Саша Тимофеев, к примеру, полагал, что весь путь человеческий от «пелёнки зловонной до савана смердящего», то есть от роддома, где не хватает этих самых пелёнок, до кладбища, куда не сунешься без взятки, тянется сквозь издевательства, как стёжка сквозь материю. Привычка терпеть издевательства, осознание их неотвратимости не дают задаться извечными российскими вопросами: кто виноват и что делать? Да и водочка не способствует развитию мыслительных способностей. Саша не верил в постепенные изменения к лучшему. Хотя бы потому, что в силу существующих условий проводить их должны те, кому не нужны никакие изменения. Стоит убрать звено, человек непременно просунет голову, начнёт болтать, пробовать цепь на крепость, требовать, чтобы ещё убрали звеньев. Это хлопотно, это раздражает, а главное, нарушает раз и навсегда установившийся порядок. Негожий путь. Куда вернее под видом снятия звеньев накинуть новых. Скажем, запретить пристраивать к садовым домикам веранды, сажать на приусадебном участочке больше пятидесяти кустиков клубники, дабы общее число созревших ягод не превышало за сезон пятисот шестидесяти семи. Ну, а в идеале, конечно, чтобы, терпеливо снося издевательства, славили, кричали здравицы, как тот карась, которого поджаривали на сковородке, а он восхищался: ах какой вкусный идёт дух! Так говорил Саша Тимофеев.
Зачем понадобился Наде жирный гитарист? Марик? Гриша? Когда вокруг столько молодых, когда рассвет жизни, когда великая русская литература: Наташа Ростова, Ася, первая любовь…
Надя подумала, что очень давно, наверное, ещё в детстве утратила веру в справедливость. А что значит не верить в справедливость? Это значит, не верить, что из собственной жизни может получиться что-то путное. А если так, чего беречься? Чего беречься, ждать мифическую любовь, прислушиваться к чувствам? Когда всё так и так пойдёт прахом? В эти мгновения Надю охватывало ощущение собственной нечистоты, словно вся она была во вшах и в коросте. Надя бросалась в ванну, долго лежала в горячей зелёной воде, с отвращением смотрела на своё длинное, гибкое тело, столь охочее до греха. Из ванны выходила чистая, упругая. Собственное тело уже не казалось гадким, душа — безнадёжно падшей.
Подобные перепады случались у Нади часто. Она думала, что ей вполне по силам начать новую жизнь, если подвернётся кто-то достойный, ради кого стоило бы рискнуть. Ради одной лишь себя вести праведную жизнь Надя нужным не считала. Вскоре она решила расстаться с Гришей.
Придя по обыкновению к нему после школы, Надя застала его в крайнем волнении. Гриша был бледен, как-то не по погоде потлив. На дворе промозглая осень, а он непрерывно вытирал платком лоб.
«Ты… не брала?» Гриша выставился на Надю, словно следователь на допросе. «Пропало что-то?» — спросила Надя. «Что-то! — воскликнул Гриша неожиданно визгливым, плачущим голосом. — Что-то! Партбилет не могу найти!» — кинулся к шкафу, стал вытаскивать висящие на плечиках костюмы, куртки, обшаривать карманы, швырять на пол. Это была настоящая истерика. Гриша бил себя кулаком по голове, выкрикивал несуразности, вырывал из письменного стола ящики, обрушивал с полок на пол книги — редкие, купленные на марки Федеративной Республики Германии, советские издания, которые он не читал. Вдруг пополз на коленях к Наде: «Господи! Если ты взяла… Отдай! Христом-богом молю… Что хочешь возьми! Мне не жить… Куда я мог…»
Это был не человек — извивающийся, брызжущий слюной, истекающий потом червь. К нему не подходило исполненное достоинства державинское: «Я червь!» Тот червь был червём пред Богом, пред смертью, пред мирозданьем, пред вечностью и Вселенной, но никак не пред предполагаемой утерей партбилета.
Надя брезгливо отступила. «Где твой серый твидовый пиджак? Помнишь, мы встречались на Арбате, ты сказал, что только что из райкома. Потом ещё ходили в кафе…» — «Какой серый пиджак? — встрепенулся Гриша. — А… нет, смотрел, я же потом платил взносы. Хотя… — скажи Надя, что надо посмотреть в ботинках, может, завалился под стельку, Гриша ухватился бы и за эту идею. — Подожди… Нет, платил же взносы, а тогда я был в костюме. А-а-а! — вдруг торжествующе заорал. — Он же только в ведомость проставил! Потому что партбилета со мной не было! Надюша, ты гений! Ящик шампанского с меня! А-а-а!.. твою мать! — схватился за сердце. — Я же пиджак… И спортивный костюм, и куртку… в химчистку…» — кинулся к двери. «Ты же в тапках, идиот! Возьми паспорт, квитанцию, ключи от машины!» — «Да-да», — Гриша тупо смотрел на выпотрошенный письменный стол, валяющуюся на полу одежду, книги. Как будто здесь побывали с обыском. «В какую химчистку сдал? Надо позвонить, чтобы задержали. И поедем!» — «В нашу, на проспекте», — истерика сменилась у Гриши оцепенением. Ещё недавно он был бледен, истекал потом. Теперь лицо горело, глаза сухо поблёскивали. Надя опасалась за его рассудок. «Обеденный перерыв!» — рявкнули в химчистке, бросили трубку. Гриша наконец обнаружил паспорт, квитанция же, как выяснилось, была в машине.
Они побежали вниз к машине, действительно отыскали квитанцию, но… из фабрики-прачечной, удостоверяющую, что Гриша сдал в стирку десять сорочек. «Где же из химчистки? Вспомни, куда положил?» Кретински улыбаясь, Гриша вылез из машины, открыл багажник, вытащил сумку. «У меня тогда не приняли, — всё так же кретински улыбаясь, проговорил он, — сказали, подкладка какая-то не такая и пуговицы не отпорол… Я ещё скандалил, дурак, говорил, что жалобу напишу…» Он дёргал «молнию» на сумке, но руки дрожали, «молния» не поддавалась. Надя быстро открыла сумку, залезла во внутренний карман серого пиджака, извлекла партбилет. Гриша обмяк, в глазах стояли слёзы — слёзы счастья. Оказалось, он не может выйти из машины. Надя сама захлопнула, заперла дверцы, как старика, довела Гришу до дивана. Он ничего не говорил и всё продолжал улыбаться пугающей Надю счастливой улыбкой. Эта история произвела на неё удручающее впечатление.
Надя подумала, что им надо расстаться.
Это намерение окончательно укрепилось в ней после другой встречи с Гришей — тоже необычной.
На сей раз Гриша был странно весел, прыгал по комнате как кузнечик. «Жена забрала письмо? Допустили к защите? Получил назначение в Вену?» Гриша сбегал на кухню, вернулся с бутылкой шампанского, фужерами. «Да что случилось?» Гриша посмотрел на часы, включил приёмник. У него был суперсовременный немецкий транзистор, позволяющий слушать даже нещадно глушимые станции. Впрочем, сейчас Гриша настроился на Би-би-си.
Политические новости, даже в интерпретации идеологических недругов, мало интересовали Надю. Она испытывала необъяснимое отвращение к радио и газетам. Радио-газетная действительность не имела к ней никакого отношения. На уроках обществоведения — они сейчас как раз проходили структуру партийных, государственных, правительственных органов — у неё скулы сводило от скуки. Лицо у учительницы было насторожённо-умильным, речи — вкрадчиво-обтекаемыми. Она говорила ни о чём, не называла ни одной фамилии, кроме тех, кто на данный час занимал главные посты. Когда кто-то задал вопрос про Хрущёва, сказала, что ответит, если останется время, но вместо этого начала спрашивать. Подняла, помнится, Надю, спросила, кто является главой государства. «Председатель Политбюро», — не раздумывая, ответила Надя. Глаза у учительницы широко распахнулись. «Генеральный секретарь Совета Президиума», — быстро поправилась Надя, но по лицу учительницы поняла, что опять не угадала. «Садись, Смольникова, — сказала учительница, — стыдно. Это должен знать каждый советский человек». Как ни странно, к Надиному незнанию она отнеслась куда спокойнее, чем к замечанию Вовки Тарасенкова, что он не видит смысла в параллельном существовании отраслевых отделов: в ЦК, Совмине, Верховном Совете. Ведь есть министерства! К чему бесконечное дублирование? «Что ты несёшь, Тарасенков? — схватилась за голову учительница. — Да кто тебе дал право…»
Диктор читал новости. В мире, как всегда, было неспокойно. Гриша разливал шампанское. Вдруг он торжествующе поднял палец. Надя услышала, что в Лондоне «на положение невозвращенцев» перешли известный советский скрипач такой-то и его жена. «Ну и что? Мало, что ли, бегут?» — пожала плечами Надя. Гриша звонко расхохотался, алчно отпил из фужера. «Это же сеструха моей жены! — завопил он. — Теперь тестю конец! Письму веры не будет! Всё, теперь я чист. Ах, Алка… — задумчиво и, как показалось Наде, с затаённым восхищением покачал головой, — ах, хитрюга… Они были у нас в Берлине, она уже тогда намекала…»
Наде сделалось не по себе. Гриша радовался предстоящему падению тестя и одновременно завидовал сестре жены, её мужу-скрипачу. «Он лауреат каких-то конкурсов. Знаешь, сколько там платят за концерт с аншлагом? Они будут деньги лопатой загребать!» Гриша ещё и ненавидел сестру жены и её мужа-скрипача. Не за то, что те сбежали. А что, по всей видимости, неплохо устроятся в новой жизни. Как сам Гриша (последуй он вдруг их примеру) не устроится никогда. Да, сейчас Гриша был самим собой, но, господи, знал бы он, как он отвратителен! «У меня болит голова, — сказала Надя, и это была истинная правда, — я пойду домой, потом увидимся». — «Что? А… да-да…» — Гриша был настолько занят своими мыслями, что не обратил внимания на её уход.