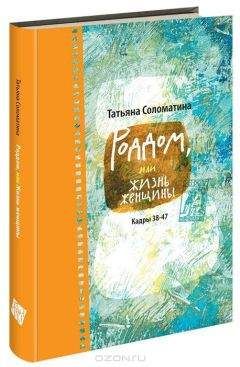Давно сотлела сигарета Фирсова в пепельнице, и он прикурил новую.
— Пришли до той хаты. Я такой ни до, ни после не видел. Я ж дитя асфальта, Вадик, как и ты. Меня в детстве водили в цирк на Цветном бульваре и в Большой на дневные спектакли. Метрополитен имени Ленина мне был как родной. А вот тихое украинское село казалось страшнее негритянских гетто в Нью-Йорке, городе контрастов. Потому что Нью-Йорк — он хотя бы город контрастов, а в той хате никаких контрастов — ровным слоем нищета. Первая фаза коммунизма, короче. И посреди той неконтрастной хаты на скоблёном деревянном полу лежит мужик. А в брюхе у него торчит топор. И вот представь себе, Вадик, что ты не в большой больнице, где чуть что: «Позовите Петра Ивановича и Василия Сидоровича!», не в огромном учреждении, где полным-полно инструментов железных и материалов шовных, не в стекле и бетоне, где света хоть залейся и хлоргексидин водопадом. А что стоишь ты, Вадик, в нищей хате украинского села и даже лампочка Ильича, мухой засиженная, не мигает, потому что хаты сельские питаются от тех проводов, что привешены к тому столбу, который сшиб механизатор. Застыл? Рот раззявил? Вот так и я застыл там с открытым ртом, Вадим Александрович. Фельдшерица мне: «Митя! Топор не трожь!» Пульс мужику на шее пощупала, хотя я это сообразить должен был. «Живой! — говорит. — Стой здесь и до него не касайся! Я мигом!» И куда-то в темень с неожиданной для её полутораста килограммов лёгкостью и прытью ускакала. Ты б знал, Вадик, как мне страшно стало! Хотя я уже взрослый мужик был, вроде тебя сейчас. Какой там хныкать? Какой там страдать? Был я чисто тот бурсак из «Вия», даже молитву попытался припомнить, да никак не мог, я ж комсомолец. А тут тот Петро захрипел. Так я сразу молитву припомнил откуда-то, не смотри, что комсомолец. «Отче наш, иже еси на небеси…» — дальше ничего в голову не приходило, ну так и мужик хрипеть перестал. Зато стал ворочаться. Я ему: «Не шевелитесь! Вам нельзя!» А у самого руки трясутся. Куда ему тот бриллиантовый зелёный наливать? Его бы под яркие операционные лампы, да чтобы бригада операционная, да анестезиолог со всеми причиндалами. Мужик же руками к топору тянется. Выдерет он его, и что? И капец. В общем, не буду страху нагонять. Демьяновна с ещё одним мужиком вернулась. Здоровым, топорами не порченным. Втроём мы пациента на телегу и погрузили. Это к пассажу Святогорского о девятнадцатом веке. В телегу, с лошадкой — в двадцатом. По Москве уже на старом японском хламе вышивали, не говоря уже о «Волгах» с «Жигулями». А там вот — телега. С лошадкой. Не-не, у того мужика, что Демьяновна привела, горбатый «Запорожец» был. Зажиточный колхозник, прям фермер на фак фуэл экономи! Да только в горбатый «Запорожец» солидного хохла с топором в брюхе не упакуешь. Как до больнички доехали — рассказал бы. Да сам смутно помню. Так в башке и крутилось «Отче наш, иже еси на небеси… Отче наш, иже еси на небеси…». Помню только, что мужик булькает и из брюха у него льётся всякое. Из больнички я кинулся звонить в ближайший уездный городишко. Оказывается, Демьяновна уже позвонила и хирург какой-никакой скоро будет. «По санавиации». Прилетел тот хирург на задрипанном «уазике», и пошли мы с ним в операционную. Они с фельдшерицей оперировали, я ж таки по специализации анестезиолог, спасибо тому «Отче наш, иже еси…» или ещё чему — не знаю, но спасибо, что хирург приехал. Посшивал тому Петру, что мог. Но сказал, что может развиться перитонит. И уехал. С того Петра дренажи торчат… Да не такие, как нынче — модные, красивые, одноразовые. А такие, Вадик, что тебе в страшном сне про историю медицины не приснятся. В вене капельница — оранжевая такая, Вадик. Многоразовая. Что такие безумные пирогенные реакции провоцирует, как та малярия во время цикла размножения паразита выдаёт. Неделю я с тем Петром возился, как с родным. Промывал, капал, нянчился. А Петро, зараза, только раз в сознание и пришёл. Спросил: «Чего с Марусей?» «Забрали, — говорю, — менты твою Марусю». Он такой: «За что?!» Я ему: «За превышение допустимой самообороны. Но ты не волнуйся, она на сносях, много не дадут, а может, и вообще отпустят». Петро на меня ясными глазами посмотрел — неделю ж не пил! — и спрашивает: «А от кого она… самооборонялась?» Я ему и говорю: «Так от тебя, гнида!» — Фирсов замолчал.
Аркадий Петрович налил всем по рюмашке.
— А он что?! — не выдержал наступившей общей тишины молоденький ординатор гастрохирургии Вадим Александрович. Уже подобравший сопли, но ещё не понимающий. Не понимающий того невыразимо простого, что дают сумма боли и опыта, умножение любопытства на знание, произведение интеллекта и мудрости.
— А он сказал: «Бля!» — Дмитрий Андреевич опрокинул, ни с кем не чокаясь. — И умер. — Стукнул рюмкой об стол заведующий отделением анестезиологии и реанимации крупной современной многопрофильной больницы. — И вот ты знаешь, Вадик? — не дал рта раскрыть ординатору Фирсов. — До сих пор меня это мучает… До сих пор! Зачем я ему сказал? Зачем?! Может, вытащил бы я его, а? Я сутки рыдал. У меня его история болезни слезами была натурально облита. Я уж молчу о посмертном эпикризе. Вот вроде тварь человек был, а я рыдал. Рыдал над своей лечебной тактикой, рыдал над районной медицинской стратегией. Над сан-авиацией бескрылой рыдал. Над языком своим злым. Мне ж кишечник того Петра, его брюшина клятая, кал его и моча были как свои собственные уже за ту неделю. Это же такое довезти, прооперировать, ухаживать… И всё понимаю — каловый перитонит, сепсис, иммунитет давно пропит, вместо лимфы — свекольный первач. Но рыдал. Иррационально рыдал. А с тех пор — больше не рыдал. Как отрезало. И прекрасные люди умирали. И возможно, что отчасти и по моей вине, — но больше не рыдал. Потому что все мы оплакиваем только первую смерть. Свою первую смерть. Мы, Вадик, умираем только один раз. — Фирсов выдержал паузу, внимательно посмотрев на ординатора. — А хули, скажи мне, мой юный друг, в аду сырость разводить?! — закончил он совсем в другой тональности и хлопнул молодого мужчину по плечу.
— А у меня когда первый новорождённый умер, я себя повёл как тот интерн недавно у Татьяны Георгиевны в отделении, — вдруг печально выступил Владимир Сергеевич. — Только у меня не поздняк был, разумеется, а нормальный уже новорождённый. Я, конечно, в подвал не побежал, но реанимировал как двинутый. Меня тогда мой заведующий, царствие ему небесное, от детского трупика оттаскивал. Как в кино, прости господи! — неонатолог шумно вздохнул.
«Вот уж от кого не ожидала!» — подумала про себя Татьяна Георгиевна.
— Он и мамаше-то своей не сильно нужен был. Она только обрадовалась, что он умер. У неё там детей без счёта было. Я тоже в роддоме маленького районного городка начинал. Туда баб со всех окрестных сёл рожать везли. Такой хорошенький пупсик был. Я его тогда чуть не усыновлять хотел. А он вдруг остановку сердца дал. Были эпизоды апноэ в первые сутки, но мало ли у кого эпизоды апноэ… Я его вручную дышал. Нормализовал. А он взял — и остановку сердца дал. Идиопатическую. На вскрытие — всё нормально. Чего вдруг? Не, реально, — Володька коротко хохотнул, — реанимировал младенческий труп с остервенением. Расплакался на вскрытии. — Молоденькая жена-медсестричка ласково погладила Владимира Сергеевича по крепкой ладони.
«Вот уж чего никогда не делали ни первая его жена, ни вторая…» — снова автоматически отметила заведующая обсервацией.
— А ты, Татьяна Георгиевна? — внезапно спросил Аркадий Петрович. — Как сёмга?
— Как всегда здесь для нас — отменная… Как я? Да никак, Аркаша. Я отродясь, так сказать, в этом родильном доме. И всё-таки моложе вас с Митей. У меня по молодости врачебной не было совсем моей первой смерти. Я, как и Вадик, была ординатором. И дежурантом была, вторым… И потому моя первая смерть, как и у него, была опосредованной, если можно так выразиться. Умерла девочка, которую оперировал тогдашний заведующий. Она умерла ночью, не на моём дежурстве. Я что-то писала в истории, слушала рассказы акушерки и дежурного врача, но самой смерти не видела. Я ходила на вскрытие, потому что была её палатным врачом. Но я не плакала, вины не ощущала, философий не разводила. Может, мужики глубже? Или чувствительней? Или просто я привыкла к «не моим» смертям. Хотя, разумеется, привыкнуть к этому нельзя. Особенно в акушерстве. Да и меньше смертей в акушерстве, чем в хирургии. Вот есть работа — и ты её работаешь. Передо мной не было конкретного Петра. Передо мной стояла задача оспорить диагноз заведующего — ТЭЛА. Убедить его написать в диагнозе септикопиемию. Потому что не было там тромбоэмболии легочной артерии. Если и был тромб — так он был септический. А тогдашний заведующий орал, что я идиотка и что яйца курицу не учат.
— И что было на вскрытии? — поинтересовался Вадик.
— Септические тромбы. Множественные.
— Так что он, анализы не видел?! Посевы?