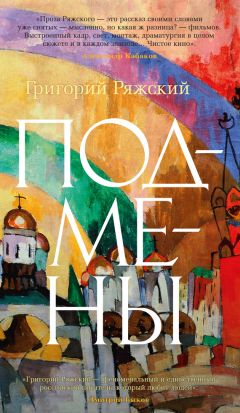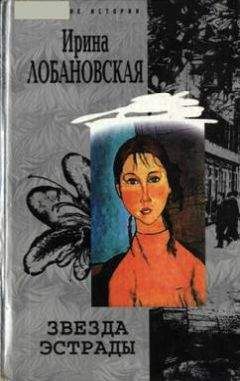«Князи, мать вашу!» – чертыхнулся про себя Дворкин, понимая, что любое сопротивление или супружеский совет уже не помогут.
Здесь обнаруживалось гораздо более сильное начало, ожидавшее и дождавшееся своего часа. В этом месте наружу выползало уже само исподнее, не стыдясь оказаться быть выпущенным на всеобщее обозрение. И даже более того – откровенно своей демонстрацией довольное.
«А плевать… – передумал он уже чуть потом, постепенно привыкая к мысли, что жена его – магазинщица. – Раз сам ущербный, то чего уж теперь с моста в воду плевать, обратно не потечёт и чище не сделается. Пускай потрудится: в конце концов, может, со временем разберётся, когда от своих же по шапке получит. Главное, чтобы на кафедре не вызнали, иначе – как сотрудникам потом в глаза смотреть? Скажут, раз жена воровка, то и сам недалеко от неё ушёл, ветеран ряженый. И все эти разговоры его про честность и долг преподавателя перед студентом – типичная приспособленческая мишура».
Походя вспоминалось вето, то самое, пожизненное, – метка, спущенная «голубыми мундирами» на его безвинную личность.
«Что ж, раз они с нами так, то мы с ними – вот как! Какие – они, такие, стало быть, и сами мы. Экий у нас, получается, преданный народ в стране немытой рабов да господ, мать вашу. А ещё кровь за этих гнид проливал», – никак не успокаивался Моисей, возвращаясь памятью к предыдущему Девятому мая, ставшему днём скорби и печали по самому себе.
Впрочем, тут же опускал себя на землю, раскаиваясь в словах, не произнесённых вслух, но воображённых; единственная кровь – так уж повезло за все фронтовые годы, – которую пролил и видел своими глазами, была не вражеской и не от самого себя. Та кровь принадлежала чешской гражданке, невинной девочке, которой он, геройский офицер, сумел испоганить молодость и жизнь через свою подлючую мужицкую похоть. Вот и выходит теперь, что сам же на себе испытывает прямую месть торсионного поля, мать его в дышло…
В общем, Веру, уступив её порыву, не трогал – дал жене унылую отмашку оккупировать манящую неизвестность. Спорить тоже не решился, поскольку понимал, что препираться пришлось бы уже не с ней, непробиваемой, а лишь с бледной тенью её. Слова, какие бы приводил для усиления личной позиции, наверняка не продрались бы в её недоразвитую и малочувственную серёдку. А те неумные аргументы, какими бы Верочка его отбивалась со всей возможной горячностью, не делали бы её лучше. И этого Моисей Дворкин, защищая не столько жену, сколько самого себя, уже не собирался проверять. Тем более что так и так хозяйство оставалось на тёще-княгине. Разве что Лёка, бедолага, терял последний шанс полнокровного общения с ещё одним родителем.
От этой удачно нашедшей её работы Вера Андреевна уставала немерено, и ей требовался отдых. Однако, к удивлению Моисея, его жена не только не жаловалась на жизнь, но, как ему казалось, даже испытывала некоторую приятную истому от такой усталости. Признаться, семейство и на самом деле стало питаться разнообразней и сытней – тут и говорить нечего, хотя, как таковых, денег хватало и раньше: Моисей за этим следил, донося в семью сколько нужно. Брал аспирантов, писал бесконечные отзывы, публиковался тут и там, выпускал монографии и даже иногда не брезговал готовить абитуриентов к вступительным экзаменам по физике. Ну и сама должность плюс доплата за степень, – одним словом, видимого недостатка не имелось. А только лёгкого пути к питательному дефициту любимая кафедра вместе со всей наукой всё равно не предлагала. Тут и вышла на авансцену жена, после чего Грузиновы-Дворкины зажили в новых обстоятельствах. Сам – неприметно стесняясь, а то и тайно стыдясь. Остальные – потребляя носимое работящей дочерью и мамой, и не абы как, а отдавая должное отдельным пищевым продуктам и одобряя такую заботу Верочки о семье.
Письмо из Свердловска пришло вскоре после их возвращения. Вера принесла его, вытащив из ящика, и бросила на стол:
– От мачехи! Поди, лютует, что в гости не позвали. Толстое!
Конверт и на самом деле слегка распирало изнутри сложенными, видно, вчетверо листами. Моисей ушёл к себе, притворил дверь, распечатал. Почерк был крупный и ровный, с одинаковым по всему тексту наклоном. Вдова писала:
«Здравствуйте, Моисей Наумович!
Признаться, до последнего дня имела сомнения относительно того, стоит ли мне Вам писать. Потом, подумав, всё же решила, что теперь уже в этом будет несомненный смысл, поскольку обстоятельства, как Вам известно, поменялись, и ничто более не удерживает меня от того, чтобы высказаться, поговорить начистоту с ближайшим родственником покойного Наума Ихильевича.
Скажу сразу – не знаю, кто и о каких фрагментах истории нашего с Наумом знакомства Вам рассказывал. Не знаю, не хочу знать. Как известно, недругов всегда оказывается больше, чем непритворных доброжелателей. Но только все годы, начиная с сорок второго, я безумно любила Вашего отца, видя себя с ним и только с ним. Вы же, скорей всего, с самого первого дня держали меня за хищницу, в трудные военные годы заполучившую Вашего папу, человека более чем притягательного и к тому же при должности. Наличие у него жены, как Вы, наверно, тоже представляли себе, не стало помехой – на то они и разлучницы, чтобы уводить мужей, даже когда страна воюет, а супруг день и ночь не покидает горячего цеха.
Да, именно так, в таком режиме и существовал Ваш отец два первых военных года. И именно они положили начало его болезни, от которой чаще сразу умирают, нежели годами одолевают потом медленную смерть. У него и до этого было неважно с сердцем, но только он, предполагая это, ничего не предпринимал для сохранения здоровья. Знала об этом и жена его, Ваша мать, Моисей. Знала, но не слишком заботилась о возможных последствиях регулярной боли в груди у Наума Ихильевича. Даже сейчас, когда столько лет жизни позади, жизни и смерти, я не могу, не имею права называть Вашу маму женщиной легкомысленной. Такое часто бывает в семьях, когда супруги, даже любящие, живя делами и пустяками, забывают о смерти, которая всегда рядом – только ошибись. Не сочтите мои слова за наставительность, просто я знаю это как врач. Надеюсь, хороший, уж извините за подобную самооценку.
Так вот, о Вашем отце. Ему вообще нельзя было работать, в его годы и в таких ужасных условиях. Однако война есть война, и тыл есть тыл, тем более уралмашевский. Он как никто это понимал, потому что был патриот. Дня не проходило, чтобы не следил он за сводками с фронта, не думал о победе и не ждал её. С самого начала верил, что фашист не возьмёт Москву, несмотря что подлый вождь сделал всё, чтобы это случилось. И Наум это знал, потому что был он чрезвычайно умный человек. Умный и сердечный, оттого и принимал всё близко к своему больному сердцу. Впрочем, это особый разговор, Моисей, про историческую правду, про ложь вождей, про то, как одни слепо верили в неё, другие же, ненавидя лживых подлецов и людоедов всех мастей, умели бороться с врагом собственным трудом, мечтая приблизить победу и наивно ожидая возврата вместе с ней любой справедливости. Но не за этим я теперь к Вам пишу, простите уж за излишние слова. Я знаю, что именно думаете Вы обо мне, я видела Ваши глаза и не могла не заметить Вашей ко мне тщательно скрываемой неприязни. Так было и в прошлый раз, и визитом ранее. Но только мы с Вашим отцом, понимая Ваш не слишком позитивный настрой в отношении меня, старались ни видом своим, ни поведением не выдать той глубокой болезненности, которую нам каждый раз приходилось испытывать в те редкие дни, которые Вы проводили в нашем доме, чтобы побыть возле отца. Знали, что поступаете формально, для деликатного поддержания родственных связей, однако сердцем Вы уже не были с ним, не умея простить смерти Вашей мамы. Он переживал, страшно. Но правды сказать не решался, опасался нарушить, изменить Вашу память о матери, хотя, на мой взгляд, сделать это нужно было непременно. Да и кто мог знать, как после этой, пускай и досадной, правды сложились бы Ваши отношения. Вполне допускаю, что, узнав истину, Вы сумели бы простить Вашу маму за её супружеское предательство, за подмену высокой любви пустым и обманным суррогатом. Не знаю, была ли она такой всегда или же военные обстоятельства и тяжёлая болезнь Наума Ихильевича привели её к тому, к чему привели. Не мне судить, я знала её лишь поверхностно и потому сужу не по чувству, а по поступкам. Да-да, именно так – теперь мне ничто не мешает обратиться к истине, той самой, единственной. Знаете, вряд ли я решилась бы на это, коли бы всё ещё не любила Вашего отца так сильно. Но теперь, когда его больше нет, – имею право: я чувствую это и потому поступаю именно так, Моисей. А ещё потому, что не она, а я спасла Наума от смерти в тот страшный для него год, когда после сердечного удара последовал сильнейший инсульт, практически обездвиживший его, сделавший его недочеловеком с минимальными видами на любую жизнь, не говоря уже о мало-мальски сносном здоровье.