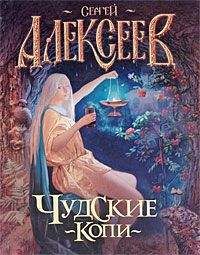У костра оказалось уютнее, но первые пять минут, пока гости наслаждались огнем, вином и специфическим фирменным блюдом – черемшой, собранной здесь же, на горе Зеленой, и сдобренной сметаной. Даже певчая птица, вернувшись к костру, приложилась к кубку, но более к горшочку с закуской. Только писатель ее проигнорировал, поскольку эта травка обладала сильнейшим чесночным вкусом и запахом, поэтому выпил и навалился на тушеного зайца.
– Может, целоваться еще придется! – ухмыльнулся он. – Вдруг какие-нибудь матрешечки придут? С рюмочкой.
Это был намек или надежда, что хозяин дождется своего знака, разгуляется и к утру на горе появятся женщины, как часто и бывало.
Потом с Мустага, от снежных линз, потянуло студеным ветерком и ознобило спину, вмиг смазав все положительные эмоции. Однако незримый в темноте официант был начеку, заметил это и укрыл клиентов теплыми, верблюжьми одеялами.
Алан же сбросил одеяло, запил черемшу минералкой и взял гитару.
– Только давай, что посвежее, – предупредил Балащук. – Ты новое сочиняешь? Лирическое?
– Я пишу, – с нескрываемой дерзостью отозвался бард и сверкнул, подсвеченными красным, глазами. – Сочиняют прозаики.
Голос у него был не сильный и потому позволял вслушиваться в слова.
Перестали быть водою вода, травою трава,
И пора сменить делами дела, словами слова.
Я готов простить за позавчера, позапозавчера,
Но толкает жизнь не тратить души, не делать добра.
Полшага назад, два шага вперед,
Ведь кто-то сказал: «И это пройдет».
И это прошло, надежды разбив,
Но смерти назло я все еще жив!
Я все еще жив!
Балащук зажал струны на гитаре.
– Ты что такое поешь? Это лирика? Это сегодня называется лирика?
К нему на помощь поспешил Шутов, уже крепко пьяный, осоловелый от еды, но не утративший критического мышления.
– Исповедь перед актом суицида, – язвительно подсказал он жанр.
– Как хотите, – обиделся бард и безжалостно брякнул гитарой о каменистую землю. – Теперь вы пойте, господин Чертов!
Этот внезапный конфликт разрешился неожиданно, поскольку у Глеба зазвонил мобильник. Он не собирался посвящать гостей в детали операции с музеем, поэтому отошел во тьму и поднес трубку к уху. Связь на горе была и в самом деле хорошая, однако из-за ветра и громких голосов у костра он сразу не расслышал доклада специального помощника.
– И спою! – бузил писатель, теребя струны. – Не ты один тут менестрель!
– Да заглохните вы! – рявкнул Балащук и отошел еще дальше.
– Они не могут войти на объект, – доложил Лешуков. – Две попытки оказались неудачными.
Глеб глянул на часы – половина третьего! Не заметил, как наступил час Ч...
Еще недавно служба безопасности сообщала, что все происходит в штатном режиме.
– То есть как не могут? – переспросил спокойно. – Какие проблемы?
– Удалить стекла в окнах невозможно, – открытым текстом сказал чекист.
– Да такого быть не может! Оно что, бронированное?
– Нет, стекло обыкновенное, оконное, четыре миллиметра...
– И что, не бьется?!
– Никак нет, Глеб Николаевич. Били уже ломом и кувалдой, даже трещин не дает. Полчаса копаются, спрашивают, что делать...
– Сам скажу, что делать!
Балащук отключил вызов и, пожалуй, минуту стоял в легком отупении, слушая, как Шутов орет дворовую песню под примитивное бреньканье. Затем потряс головой, пробрел несколько метров до снежной линзы, умыл лицо зернистой и тяжелой, как соль, массой, после чего связался с начальником службы безопасности.
– Что, господин Абатуров, не бьется стекло? – без всякой прелюдии спросил он.
– Глеб Николаевич, это невероятно, но факт! – приглушенно выпалил бывший начальник УВД. – Во всех окнах уже пробовали! Какие-то странные стеклопакеты!
– А со двора? Там рамы старые, ткни – развалятся!
– И со двора пробовали! Подшумели, с верхних этажей люди выглядывают...
– Рвите рамы машиной, ломайте двери! Сами-то проявляйте хоть какую-нибудь инициативу!
– Если разрешаете – вырвем, – пообещал тот.
– Погоди, а старик там что делает? Хранитель?
– Ничего, все ходит, с молотком... Нет, Глеб Николаевич, это просто уму непостижимо! Крыша едет!..
Он не дослушал детский лепет умудренного и возбужденного полковника. Еще раз умылся снегом и вернулся к костру.
– Пой, – приказал барду.
Тот даже не шевельнулся, глядя в огонь. Балащук отнял гитару у писателя, положил на колени Алану и приобнял за плечи:
– Извини, брат, не обижайся. Настроение у меня сегодня... А тут еще с матушкой...
Упоминание о матушке словно пробудило его.
– Что с ней? – спросил тревожно.
– Да все нормально. Тоскует старушка...
– К ней никто не приходил?
Видно, барду опять были некие вещающие, пророческие голоса, однако в присутствии Шутова обсуждать это было нельзя.
– Верона приехала, – уклонился Глеб. – Ты пой.
Он пригасил обиду и все равно заявил с мальчишеским упорством:
– Буду петь то, что хочу. И не мешайте мне.
Он и прежде проявлял подобную ершистость, но не в такой степени и не так явно. Должно быть, стал забывать, благодаря кому стал победителем российского конкурса...
Ветер усиливался, слабо мерцающая вершина Мустага закрылась плотной тучей, и снизу, от Шерегеша, словно дым, всклубилась тьма: во всем поселке почемуто погас свет, и от этого фонари на Зеленой, окна ресторана и служебных помещений разгорелись еще ярче.
Сердце на замок, на ветер мечты, на порох мосты!
Все, что я берег, исправит огонь, стирая следы.
Если примет Бог слова о любви у последней черты,
Склонит мир у ног, затем, что таких редеют ряды.
Полшага назад, два шага вперед,
Ведь кто-то сказал: «И это пройдет».
Он только сейчас вслушался в слова и уловил смысл, однако отвлек новый звонок, на сей раз управляющего горнолыжным хозяйством Воронца, сидевшего внизу вместе с охранником.
Бард предупредительно умолк и накрыл струны рукой.
– Глеб Николаевич, не волнуйтесь, все в порядке, – предупредил Воронец. – У нас тут свет вырубило, извините, канатка сейчас не работает. Но обещают через час исправить.
– А что там случилось? – недовольно поинтересовался Балащук.
– Шаровая молния. Фидер на подстанции выбило. Если что, запустим дизель...
– Гроза идет? – Он попытался рассмотреть в небе звезды, однако свет фонарей и костер слепили.
– Нет, Глеб Николаевич, прогноз на ночь хороший! – бодрился управляющий. – Без осадков, температура плюс семнадцать...
– Откуда же шаровая молния, Воронец?
– Здесь это бывает. Железные горы кругом...
Балащук сунул телефон в карман и сел к огню. Писатель уже спал, уронив голову на грудь, отчего мясистое лицо побагровело еще сильне, а тяжелая челюсть отвисла, рот открылся и посинели губы – мертвец, но налитый до краев, черненый серебряный стаканчик держал крепко и ровно, как по уровню...
Бард вдруг запел надрывным, незнакомым голосом.
И снова с нуля да по лестнице дней
Опаснее яда, темнее теней.
Мне рваться наверх в безликий парад,
Расталкивать всех и бить наугад.
И, зная, что есть за тучами свет,
Совсем не жалеть потерянных лет,
Не дергать стоп-кран, не чувствовать боль,
Не падать от ран, не прятать любовь!
Не прятать любовь!
Из последних сил над пропастью лет лететь и лететь.
Все, что я любил, того больше нет, и хватит жалеть.
Я глаза открыл, и сердце во мне забьется вот-вот,
Я уже ступил полшага назад, две жизни вперед.
Балащук не уловил момента, когда свет погас и на горе, поскольку смотрел в огонь и отвлекся, но когда поднял голову, то ничего, кроме непроглядной тьмы окрест костра, не обнаружил. Словно все: гостиничный поселок внизу, канатные дороги, гаражи с кабинами, рестораны, кафе и прочие постройки, – короче, вся могучая и гордая инфраструктура горнолыжных трасс никогда не существовала, впрочем, как и такая мелочь, как фонари охранного освещения, подсветка стартовых площадок и совсем уж пустяковые декоративные светильники. И остался один костер, как бы если он очутился здесь лет сто назад, когда Зеленая была местом отдаленным и диковатым...
Из тьмы высунулся официант и упредил вопрос:
– Это у нас бывает... Сказали, шаровая молния. Сейчас я свою станцию запущу, – и растворился в непроглядной бездне.
Тьма смирила и барда – гитара замолкла, песня осталась недопетой...
Глеб позвонил управляющему вниз и велел немедля запустить резервный источник питания, но услышал в ответ нечто невразумительное:
– Дизель работает... Энергия, напряжение... Ищем электрика и обрыв... Что-то сгорело или отсырело...
– А мозги у вас не отсырели? – взревел и осекся Балащук. – Вы что там, надрались?!
– Я на пульте управления стою! – клятвенно сказал Воронец. – Исправим!..
Шутов проснулся, закрыл рот и позрел совершенно трезвым взглядом. Увидел стаканчик в твердой, несгибаемой руке, замахнул его в один глоток и вальяжно отшвырнул в траву.