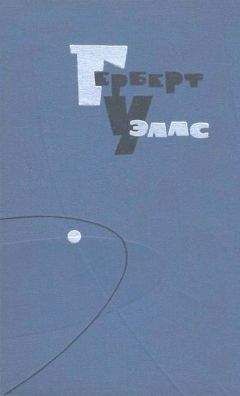И думал: “Какая странная балконная стена, высокая и темная. Какое узкое и светлое небо... Разве так бывает, чтобы небо было светлее стены?”
В соседней комнате бубнил телевизор, родители о чем-то спорили. Хрустнул и заскрипел диван, отшумела вода в ванной. Всё это были родные, до боли знакомые звуки. Неотделимые от его внутреннего мира — как рука или нога немыслима без тела. А комната оставалась чужой и враждебной. Ни рисунка на обоях, ни пружины от матраса. Ни старого абажура под потолком.
За стеной шла привычная жизнь, но эта жизнь не была с ним связана. От нее отделяла не каменная стена, а слой непреодолимой материи. Вещества, навсегда разъединившего ребенка с теми, кто находился с той стороны.
От страха он закрыл глаза, а когда открыл, картина в окне переменилась.
То, что он принимал за небо, было потолком лоджии.
Однако стоило ему закрыть-открыть глаза снова, и небо со стеной менялись местами.
“Неужели ничего не будет? — кричал внутри кто-то. — Когда я умру — ничего? Ничего-ничего-ничего?”
“Замолчи! — приказывал он себе. — Заткнись, дурак!”
Но было поздно. Вместе с этим “ничего” его уже заполнил страх. Ужас, выжигающий сознание. С каждым “ничего, ничего, ничего” в самой его сути все глубже открывался провал. Зазор — как между стеной и небом.
И он проваливался в эту трещину.
“Ты звал? — В комнате стоял отец и изучающе разглядывал мальчика. — Почему ты на полу?”
Губы у ребенка тряслись, по лицу текли слезы.
“Что-то приснилось? — Отец по-прежнему не двигался с места. — Сейчас позову маму”. Его рука неловко взъерошила мальчику волосы.
Ему хотелось схватить отца за руку, прижать. Но вместо этого он замотал головой, зарылся лицом в подушку. “Не надо”, — промычал.
Отец постоял немного, пожал плечами — и вышел.
….“Ничего-ничего-ничего”, смешные детские страхи. Как бы ему хотелось этого “ничего”! А вместо этого он сидит в чужой комнате, в чужой стране. На чужой кровати — или в чужой жизни. С видом на полоску неба или на стену с фотообоями, не важно.
Все слышит, видит. Разговаривает.
А вернуться обратно — нет, не может.
За столами сидят мужчины и женщины и несколько монахов. Все места заняты, только один стул пустует, в самом центре. На спинке висит рубашка с вышитым крестами воротником, самая обычная. Под стулом стоят стоптанные женские туфли.
Из воротника торчит картонка, на бумаге грубыми штрихами обозначен силуэт человека в позе лотоса. Несколько деталей помельче, цветы и морская раковина.
С каждым новым блюдом, которое выносят к столу, молодой монах обходит гостей и собирает часть еды на тарелку. После чего, поклонившись, ставит тарелку перед стулом с рубашкой.
Человека усаживают вместе со всеми. Ему заботливо придвигают блюда с рисом и овощами. Подливают из кувшина воду. Еда острая: первое время человек сидит с открытым ртом, размазывая по щекам слезы.
Монах встает из-за стола, остальные гости поднимаются тоже. Монах и другой, старик, ставят перед стулом с рубашкой железный поднос. Картонку с рисунком осторожно вынимают из воротника и кладут на него.
Монах зажигает масло в плошке и подносит к бумаге. В дневном воздухе пламя горящей картонки едва заметно. Монахи приступают к молитвам. Гул слов все громче — пока огонь не гаснет окончательно. Теперь на блюде только листья пепла.
Монах выкладывает тряпичный узел. Внутри завернут кусок глины. Уверенными движениями монах втирает пепел в глину и месит, как тесто. А потом лепит из глины с пеплом фигурки — и раздает их гостям.
ЧАСТЬ V
— Просто не обращайте внимания, и он уйдет, — сказал кто-то.
От неожиданности я соскочил с табурета, тот закачался и упал.
“Не может быть!”
Поставил табурет на место, повернул голову.
Действительно, инвалид-нищий, только что сидевший на улице, исчез.
— Ну что вы, что! — Ее темные глаза излучали ровный янтарный блеск. — Сами же с собой по-русски разговариваете.
“Так вот и сходят с ума”. Я сел за стойку, поднял глаза. Но женщина, говорившая по-русски, была не призрак. Она не сводила с меня глаз, одновременно вытирая полотенцем стакан. От нее исходил аромат коньяка и благовоний.
— Может быть, хотите, чтобы вас ущипнули?
Я показал глазами на бутылку:
— Налейте.
Она опустила стакан с таким видом, будто это гиря, которую надоело держать. Аккуратно нацедила из бутылки рюмку. Открыла банку с водой.
Пена от колы шипела и быстро оседала.
Пока она доставала лед, я украдкой разглядывал ее. Невысокая, с округлыми бедрами. Моя ровесница, хотя выглядит на тридцать. Ноги в черных рейтузах короткие и стройные. Маленькая грудь под рубашкой смешно торчит. Плавные, разглаженные черты лица выражают иронию и вместе с тем невероятно серьезны. Глаза, их густой оценивающий взгляд.
Кого она мне напомнила? Или каждый, кто заговорил бы со мной по-русски, выглядел знакомым?
— Мины, эхо войны… — Остатки пива стекали в стакан. — Знаете, сколько таких? — Лимон полетел в мусорный бак. — Вы еще детей не видели. Или видели? Их возят в игрушечных колясках. Когда ног нет…
Она засмеялась горьким отрывистым смехом, каким смеются отчаявшиеся циники.
— Да, видел. — В южной ночи мой русский звучал тарабарщиной.
— Когда первый раз встречаешь такую коляску, кровь останавливается. — Она кивнула. — Перестаешь понимать, зачем жить. Если такое возможно — зачем жизнь? Какой в ней смысл? Еще?
— Что?
В моем стакане снова блестел ром.
— А потом понимаешь, что эти люди уродливы только физически. Пусть инвалид, калека — а в душе мир и порядок. Странно, правда? Другой давно бы озлобился, превратился в нервную скотину. А тут полная гармония, равновесие. Нашим такое не снилось.
— Откуда вы знаете? — Промокшая рубашка прилипала к спине.
Я вспомнил липкую кожу девушки, с которой был всего час назад. Ее волосы — твердые от лака, как они касались моей кожи.
Ее подбородок дрожал в беззвучном смехе.
— Понимаете, у иностранца здесь выражение глаз другое. Блеск во взгляде появляется — особый, тусклый. Победный. Люди с таким взглядом думают, что все познали, что они боги, а не заурядные столичные невротики. Что избавились от своих страстей и страхов. А все наоборот, хвост виляет собакой.
— Вы про меня? Про мой взгляд?
Она извинилась, отвернулась — чтобы сменить музыку.
“Где я мог ее видеть?” — снова попытался вспомнить.
Проигрыватель щелкнул, заиграла новая музыка, на этот раз регги.
“Просто случайно встретились в городе... Красивая европейская женщина, вот и запомнил”.
— Вы-то как сюда попали? — Соскучившись по музыке, я невольно принялся отстукивать такт.
Вместо ответа она пальцами начертила в воздухе рамку.
— Вот гора, видите? — показала себе за спину. — Гора одна, а все смотрят на нее по-своему. Моя цель — понять, что это значит, смотреть на одну гору по-разному. И сколько их всего в таком случае, этих гор?
На улице давно стояла ночь, никаких гор не видно.
— Успешно? — Я сделал вид, что понял.
— А вы правда хотите слушать?
Столько времени один, глупый вопрос.
Она подвинула мне бутылку, откинула волосы.
— Хочу, конечно! — не вытерпел, выкрикнул.
— Странно, правда?.. — Она словно продолжала свою давнюю мысль. — Когда хочешь рассказать с начала — смешно и странно. Потому что его нет, “начала”. Одно цепляется за другое, второе за третье, и так до бесконечности — вот и выбираешь середину. Второе действие.
Я показал жестом, что готов слушать любое действие.
— Если “начало” условность, пусть оно будет вдвойне условно. Что может быть условнее театра? Вы любите театр?
“Театр, театр…” В памяти всплыло одутловатое лицо актрисы, игравшей в кино с таким названием.
— Не помню, — пожал плечами.
— Хотите, расскажу ваш случай? — Она обрадованно щелкнула зажигалкой.
— Да.
Дым от сигареты ударился в стойку и разошелся кругами.
— Вы много-много лет не ходили в театр. С юности, со студенческой скамьи — когда бегали вместе со всеми на те постановки. А потом пришло новое время, и вы решили — почему бы нет? Жена через друзей-артистов достала билеты, и вы пошли на модную премьеру. Но от того, что вам показали, вы пришли в ужас. Вас охватили паника и стыд, стыд и разочарование. Как знаменитые люди, которых вы помните по любимым фильмам, могут вытворять такое ? Как зрители смотрят на это и даже хлопают? С тех пор вы предпочитаете пластический театр.