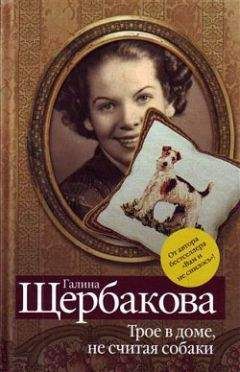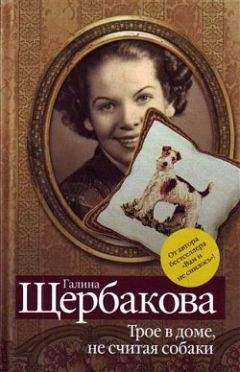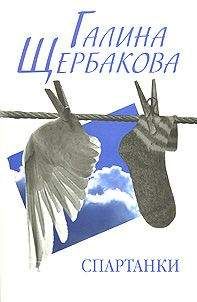Дорогой наш Талик был красив в гробу, и все молодые женщины – не поверишь, даже посторонние – норовили подойти и поцеловать его, и если бы не твердая рука Нины, это никогда бы не кончилось.
Вы, Ольга Сергеевна, работаете в кино и вполне можете это снять, и это будут такие слезы, что ты, девуля, сможешь получить лауреата и станешь известна всей стране в большей степени, чем в меньшей. Про количество венков и говорить не приходится. Это что-то невозможное. Венки занимали пол-улицы, и не думай, что проволочные, как для бедных, – из елок и живых цветов, просто, можно сказать, гирлянды. Речи тоже не кончались, если бы не твердая рука Нины, люди бы говорили сутками. Все подчеркивали, какой великий человек был Виталий Акимович, как много он сделал для людей, – как Данко. Могилу ему вырыли в десяти метрах от главной аллеи, рядом два Героя Социалистического Труда и завуч школы, молодая совсем женщина, – рак матки. Я плохо видела от слез, а еще и от гипюрового черного платка, который все время сползал на лицо, исключительно тонкий, старинного качества материал. Поминки были в ресторане „Золотая рыбка“ – самом лучшем в нашем городе. Я не говорю про узвар и кутью, это мы отдаем дань нашему неграмотному прошлому, когда и пищи-то хорошей не было, а только то, что под ногами. Но мы не ударили лицом в грязь, не посрамили нашего возлюбленного сына. Девуля! У нас было все. И свинина, и осетрина, и копченые куры, и всякая остальная мелочь. Но семье погибшего это ничего не стоило, общественность города с радостью взяла все на себя и не расходилась до глубокой ночи. Чтоб облегчить мне страдания, из кабинета директора ресторана принесли для меня мягчайшее кресло из Финляндии, цвет беж, и подкатили мне столик на колесиках. Такое удобство, скажу тебе. И я получила прекрасную возможность слушать воспоминания друзей моего единственного, не считая покойного Вовочки, сына о его жизни и деятельности. Ольга Сергеевна! От имени всех присутствующих на знаменательном событии я прошу вас не оставить жизнь и деятельность моего сына, а вашего близкого родственника без следа. Девуля! Кино просто просится – такая биография. И детство в оккупации. Талик ведь все время точил нож на врага, а был совсем невинное дитя. И его общественную работу на ниве профсоюза. Сколько культурных мероприятий он провел для простых людей. А какой он был семьянин! Про это ходят легенды, как он отвозил Нину с аппендицитом. А сколько трагических исходов от легкомысленного отношения к болям в боку? Талик же пошел к соседу, и тот, не считаясь с личной жизнью – к нему приехала дама из Воронежа, детский врач, разведенная, – отвез Нину в больницу. Ты же помнишь его! Отзывчивость, отзывчивость и еще раз отзывчивость – девиз моего сына. И ничего себе – только скромность».
Далее в письме следовал перечень всех надписей на венках. Надо уметь читать, господа-товарищи, чтоб во всей этой траурно-бюрократической мути усмотреть нечто! Но тетя Таня усмотрела! Великий генератор превращений, она претворила муть в золотое слово, а горе в радость, и я все думаю: в какой момент трагедии включился ее пламенный мотор?
Вот звонок. В дверь? По телефону? Или крик с улицы: «Убился! Убился!» И старая женщина вдруг понимает, до нее доходит, что речь идет о ее сыне. Что она начинает делать допрежь всего? Кричать? Плакать? Падает замертво? Нет. Она лезет в комод за гипюровой косынкой. Похороны в ее возрасте – вещь частая, косынка недалеко, к тому же тетя Таня с молодости обожает черное. Оно ей идет. Когда-то к черному шелку шла коротенькая стрижка черных как смоль волос. Челочка уголочком, височки высокие, выше уха. Брови, выведенные карандашом не на месте белесых коротеньких всходов, а где-то там, на середине лба, чтоб подчеркнуть удивление радостностью жизни. И крохотная бородавчатая родинка у носа обмазывалась тем же слюнялым карандашом и называлась «мушка». Губы, конечно, тоже рисовались, хотя в этом не было никакого резона. Сочные, яркие, они раньше всего остального определяли главное – страстность и жадность к жизни. Когда, подчиняясь моде, она рисовала губы сердечком, это главное выпирало особенно. Нет, не для чайной ложечки радости родился этот ротик, а для хорошей деревянной поварешки, в которой горячее не горячо, холодное не холодно, а потому хлебай – не хочу. Радость моя, жизнь!
Я ответила тете Тане открыткой, буквы в ней были расставлены широко, чтоб меньше влезло слов. Потому что их у меня не было – слов. Тети– Таниными я не владела по причине полной жизненной бездарности. В собственной же лексике – увы! – было слишком много желчи. Слава богу, что мой над-ум вовремя это протрубил. А то бы с подачи низа, потрохов, могла бы ляпнуть черт-те что и потом ела бы себя и выплевывала, ела и выплевывала. Дело в моей жизни обычное.
А вот теперь, когда мое время стало потихоньку сжиматься, вытесняя в другое пространство, в другие миры несказанное, невыполненное, именно тетя Таня прорвалась через непроходимую стену между… Между чем? Откуда она свалилась на меня? У меня ведь другое на столе – какая-то горькая женщина с суицидом в голове, какие-то слабо говорящие на неизвестном миру языке мужчины, печальные дети в пупырышках диатеза, да мало ли чего определено мною как важное, наипервейшее на ближайшие как минимум десять, повезет – пятнадцать лет. Дай мне их Бог, дай, не поскупись.
Но подкралась тетя Таня. Она дышала мне в ухо и целовала меня своими необъятными губами. Только склонностью к сентиментальной фантастике можно объяснить странное предположение, что это были губы мальчика Жени. Игра воображения? Печаль, что мальчик вырос и подхрапывает в электричках, как какой-нибудь молодой старик?
Тетя Таня есть тетя Таня. Сумела меня достать. Она применила свое средство – любовное. Наверное, пролетая над Юпитером и Череповцом, она размышляла: «Эта девуля, Катина внучка, сроду была малокровная, я ей лично оттягивала веко и смотрела – одна бледнота. А семья позволяла ей читать до помрачения. Они спятили на образовании, как будто от этого у женщины делается другое устройство. Как будто книжки могут заменить поцелуи и тем более… Я говорила это своей сестре-дуре Кате в лоб: „У девочки подрастают грудочки. Это так красиво, Катя, нет слов! Объясни ей эту красоту“. А она на меня мокрым веником. И платья на девулю напяливали старушечьего цвета, чтоб ни намека на грудочки, ни намека на попочку, подчеркивалась одна голова, набитая книжками. Ах боже ты мой! Вот пролетаю над Череповцом – и нету у меня слов для выражения отношения к Череповцу и всему остальному. Какие же идиоты!»
Я рассказала все как могла. Спи спокойно, тетя Таня, а хочешь – летай. Хотя о чем я говорю? Разве по тебе эта бабочкинская жизнь? От эльфов только Дюймовочке кайф… Да что там говорить… Вся надежда, что где-то что-то набрякнет, где-то что-то раскроется, возникнет завязь – и тетя Таня вернется на землю целоваться, как только одна она умеет.
…Она просто умирает от любви. Так и говорит себе: «Ой, я умираю». Из всех ощущений, которые накопились у нее за жизнь, это ни на что не похоже. Оно как бы и не от жизни. Значит, от смерти? Потому и «ой, я умираю»? В ней все комом. И ком ее распирает, но совсем не так – распирает и больно. Конечно, и больно тоже. Есть это ощущение. Но не оно главное. Главное… Ну, конечно, главное – ой, я умираю… Но одновременно и счастье… Одновременно и счастье… Да! Именно. Она нюхает халат, к которому притулилась. Прихватывает его губами, ртом… Махра есть махра. Отодвинулась от нее даже, потому что сбила ее с толку дура матерчатая. Хотя все ее вещи она давно перецеловала. Украдкой, тайком, это, конечно, не удовольствие, какое удовольствие прикасаться губами к хозяйственной сумке. Это куда больше. Вот это больше она всегда ощущает. Это больше. Она ударила себя туда, где обретаются все наши ощущения, чувства, она звезданула эту дерзость – думать о ее махре просто как о махре, которая существует как бы сама собой. Как ты смела, дрянь? Хорошо, что явилась умная мысль: когда она рядом, живая, теплая и прекрасная, ее вещи «меркнут и гаснут», куда им в сравнение… Господи, конечно же! Вон она какая! Через тонкий полиэтилен банной занавески. Розовая, белая, горячая. Как снуют ее руки, сверху вниз, сверху вниз, как бьется об нее красавица струя, как отлетают неудачницы капли, которые мимо, и плачут, плачут, стекая по занавеске. То-то, собаки! Не только мне умирать тут от любви и жевать махру.
– Ну-ка, потри мне спину!
Отдернулся полог. Какая же она! Мамочки мои! Повернулась спиной, сунула в руки намыленную мочалку.
Затряслись руки. Боже, помоги! Вот так, вот так.
– Да ты что? – закричала она. – Как мертвая! (Мертвая, мертвая, все верно, я и есть мертвая.) Ну-ка, сильней! Еще! Еще!! Еще!!! Во! Дошло наконец!
Дошло. Она даже вспотела. Споласкивала руки и смотрела на капли пота на лбу и под носом. Шмыгнула изо всей силы.