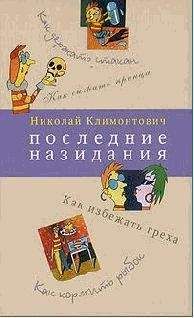Здесь была такая традиция: после отбоя совершался обход. Иногда его осуществляли старший пионервожатый с вожатой отряда на пару, иногда он приходил со свитой, в которой подчас бывала и Галя Бебих. И вот через два дня после моей неудачной премьеры, обернувшейся боевым крещением, состоялся такой обход, после чего мои товарищи заснули мирным сном. Сказок я им больше, понятно, не рассказывал, да они от меня их и не ждали теперь. Палата спала, я лежал на спине, смотрел в открытое окно на далекие силуэты темных деревьев, на черное небо, чуть подсвеченное луной откуда-то сбоку, и мечтал о том времени, когда меня отсюда, наконец, заберут. Под полом скреблись мыши, в небе мерцали смутные звезды. Я почувствовал ее присутствие, ведь услышать ее шагов никак не мог – она передвигалась бесшумно. Я закрыл глаза и притворился спящим. Она подошла к моей кровати, и в тишине я расслышал ее дыхание. Она постояла молча несколько секунд, потом наклонилась и поцеловала меня. И так же неслышно вышла. Я открыл глаза. Нет, я не спал, и мне это не приснилось: фея поцеловала меня наяву.
Быть может, родители чувствовали себя виновато, когда забирали меня из лагеря. Я стал худ, обветрен, руки в цыпках, коленки ободраны, в облике моем проступило, наверное, нечто отчетливо шпанское, и они поглядывали на меня с жалостью и долей опаски. Конечно, родители могли бы догадаться, что со мной произошли – помимо внешнего опрощения и обретения вполне дворовой внешности – и кое-какие внутренние изменения, но откуда им было знать – какие именно. Что ж, побывав в пионерах, я поднабрался кое-какой мудрости и сноровки, как то: научился плевать на два с лишним метра в длину, узнал, как выглядят со стороны развалистые груди поварихи, поросшие будто прозрачным мхом, мог теперь, сжав зубы и затаив обиду, перенести унижение, а также познал разнообразную любовь, пусть и платоническую. И зря моя мать смеялась над моим вкусом, показывая бабушке конверт, который уже через несколько дней после моего возвращения под отремонтированный отчий кров обнаружился в почтовом ящике. На обратной его стороне наискось было написано жду ответа, как соловей лета, – моя былая партнерша Томка, даром что Золушка, была с манерами. Но я не стал оправдываться и объяснять, что любовь у меня была в другом месте, а эта корреспондентка – всего лишь мой товарищ по искусству сцены.
Было решено в целях окультуривания ребенка обратно, возвращения, так сказать, в интеллигентское состояние, отвезти меня на Рижское взморье: кафе с ароматным кофе, ренессансный костел с высокими темными витражами, с полом из каменных плит и резной деревянной беседочкой слева, высоко прилепленной к колонне, винтовая лесенка к ней, ряды почти школьных парт, а там то камерные, то духовые концерты на открытой сцене в городском саду, от звуков которых томило душу, и необходимость как-нибудь поехать в Ригу, чтобы в
Домском соборе послушать его орган, – интеллигентская повинность.
Рассчитали так: дети с матерью едут вперед, отец дочитывает курс и принимает экзамены, потом нас догоняет. Прибыли на поезде с занавесками, на них были изображены синие якоря и парус. Мать с сестрицей и со мной поселилась в Яун-Дубултах в пристойной комнате с комодом и двумя кроватями на втором этаже ветхого деревянного дома – кухня, сортир и умывальник были на первом. Я спал на раскладушке, которую нам принес необщительный хозяин-латыш, делавший вид, что не понимает по-русски, тогда как хозяйка, сама наполовину русская, из
Даугавпилса, напротив, была приветлива, а по-русски говорила с милым акцентом. Пока дамы вечерами болтали на кухне, мы, уже уложенные в постель, были предоставлены самим себе. Я заползал под кровать сестрицы, страшно рычал, утробно вещал. Катька пугалась, но молчала, лишь иногда, как мышь, тихо попискивала.
С хозяйкой мать сошлась настолько, что скоро стало известно: хозяйкин муж после войны сидел в сибирском лагере, но не совсем слишком, говорила латышка, пять лет. Имелось в виду, наверное, что многие сидели и дольше, а кто-то и вовсе не увидел больше своей родной маленькой земли с озерами и соснами в прибрежных дюнах. По субботам хозяин напивался, сидя на первом этаже на кухне на своем табурете, накрытом кокетливо вышитой подушечкой-думкой, курил – по лагерной привычке, наверное,- папиросы Беломорканал. Набравшись, он принимался громко разговаривать сам с собой по-латышски, перемежая длинные спичи русским матом, который извергал почти без акцента, и стучал кулаком по столу. Без перевода было понятно, о чем он, – о том, какие русские свиньи. И, кажется, грозился дожить до времени, когда немцы русских из Латвии выкинут.
Утром хозяйка приносила извинения. При Сталине он молчал бы, бормотала мать беззлобно, но и без особого сочувствия – впрочем, за такие речи могли и при Хрущеве по головке не погладить. Тем более что в те времена где-то в прибалтийских лесах еще гуляли лесные братья, и русские курортники опасались ходить за грибами. Но скорее всего это были лишь легенды, питавшиеся запомнившимися с послевоенных времен страхами. К тому же в конце концов хозяин имел в виду собирательных русских, а к нам здесь относились вполне прилично, разрешали пользоваться кухней и угощали вареньем из кислых желтых слив, что созревали и падали в траву в маленьком садике за домом.
Отец прибыл-таки, когда на него уж не было надежды. Без сюрпризов ему было трудно жить семейной жизнью, потому с собою он привез своего приятеля-физика, за которого, как с раздражением говорила мать, вспоминая, должно быть, рыжую аспирантку Лилю, опять написал диссертацию. Отец возражал, что Спартак очень способный, но тугодум. Был у матери и еще один повод для недовольства – почти сорокалетний Спартак был хронический холостяк и жил с нежно обожавшей его и обожаемой им матерью в том самом кромешном коммунальном доме на Манежной площади, напротив библиотеки, что и мой случайный дружок по деревне Андреевка – вот как тесен этот мир.
Спартак был тучен, косолап, смешлив, беззлобен, потлив. Он поселился неподалеку от нас, сняв себе довольно милую светлую, совсем девическую, комнатку с прозрачными тюлевыми занавесками, с окошками, смотревшими в жасминовый сад. И все бы ничего, его, безобидного, терпели бы, кормили бы завтраками и ужинами, мать шутила бы над его никак не идущим смирному еврею героическим римским именем, отец беспрепятственно играл бы с ним в шахматы на его территории, но одно качество Спартака приводило мать почти в бешенство – тот был отпетый, хоть и простодушный, женолюб и волокита.
Это свойство в нем пробуждалось всякий раз, когда в зоне видимости оказывалось одинокое лицо дамского пола. Иногда мы всей компанией ходили завтракать в очаровательное маленькое кафе с чистыми, народной выделки, рушниками на столиках, стоявшее на пути на пляж.
И, пока мы глотали здешние вкуснейшие взбитые сливки, Спартак не спускал глаз с официантки-латышки. Не стесняясь нашим присутствием, он пытался брать ее за руку, потея и бормоча косноязычные комплименты. Потом мать выговаривала отцу, что на это просто противно смотреть, отец только улыбался и утверждал, что Спартак всего лишь безобидный оптимист и жизнелюб и это он так шутит. А у нее, у нашей матушки, воспаленное воображение. Это у меня-то?! – восклицала мать в гневе.
Но латышские официантки, как и продавщицы и кассирши, на контакт не шли, отказываясь понимать комплименты Спартака и принимать его ухаживания, так что единственным его шансом оставались русские курортницы, и уже на третий день он продемонстрировал нам какую-то бывшую танцовщицу народных танцев с перекаченными мышцами ног – из
Нижнего Новгорода, дамочку далеко за сорок и довольно жалкую, провинциальную, с редкими волосиками на голове, как-то слишком заметно одинокую. Пока это было все, чем одарило его побережье, поскольку на данном чинном отрезке буржуазного курорта отдыхали преимущественно семейные пары, а ночная разгульная жизнь шла в другом месте взморья, где-нибудь в Майори или Дзинтари. То есть
Спартак попал за компанию совсем не туда. Но и платного разврата он не искал, хотя бы потому, что был робок и беден, а также страдал фобиями: он как-то при мне повествовал отцу, что всегда надевает два презерватива, один на другой, на что отец откликнулся, сбивая его с темы и кося на меня глазом, что, мол, в воланы для бадминтона надо бы класть для веса сосновую шишечку. К тому же, что вовсе не странно для ловеласа в летах, страдающего одышкой, Спартак в то лето на самом деле алкал не случайного разгула, но решил жениться: собственно, с этим напутствием и отправила его мама одного на курорт, снабдив некоей долей суммы, скопленной в семье на черный день, то есть на ее собственные похороны, и мог ли выпасть в жизни этой маленькой семьи день чернее. Его мама, как Спартак рассказывал за завтраком, каждый день обещала скоро умереть, чем повергала сына в уныние и страх. Говорила, хотя это ей и будет очень тяжело и она этого не переживет, но жениться ему необходимо, потому кто будет следить за бедным мальчиком, однако, как любая женщина, тут же выдвигала и встречный мотив, в том духе, что, может быть, умирать она еще подумает и успеет увидеть внука, маленького такого Спартачка.