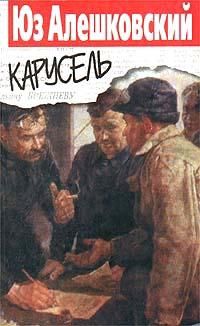Хохот. Даже Втупякин закашлялся весело.
— Значит, — говорит, — намекаешь, Байкин, что меня надо лечить?
— Не намекаю, а заявляю с полной ответственностью.
Еще громче хохочут, а меня уже страх пробирает, как расплачиваться мне придется за умные и упрямые речи. Молчал бы, мудило, в тряпочку.
— Какой же ты мне ставишь диагноз?
— Диагноз один у тебя на все века, — говорю ясно и твердо, — говно ты есть смердящее и бесполезное для жизни на Земле.
Ну, тут уж весь зал грохнул, как по команде, а Втупякин, хоть и лыбится, но зыркает на меня зло и многообещающе. И поясняет:
— Лечение больного Байкина проходит последнее время успешно, но вы не забывайте в нашей практике о возможных рецидивах болезни, о вспышках немотивированной агрессии и разнузданного хулиганства.
— Эрго, опасности для общества, — вставляет Ленин.
— Сука, — говорю, вспыхнув, — бригады твои опасны, как гиены, а не я. Шакал. Если б не ты вместе с ними, я бы землю сейчас пахал, а не рожи вот эти разглядывал. Шакалище.
— Рекомендуется ли, товарищ военврач, мера карательного воздействия по отношению к явно вызывающему поведению больного и хулиганско-антисоветским высказываниям?
— Наша психиатрия против репрессирования больных, но в каждом отдельном случае надо полагаться на интуицию и строгую избирательность мер, варьируя их так, чтобы возбудить участки торможения коры головного мозга больного с целью пресечения деятельности его первой и второй сигнальной систем, включая лишение пользованием торгового ларька, что приносит большой эффект в наших условиях. Больной Байкин прогрессирует как выздоравливающий от посталкогольного психоза, но мы с ним еще поработаем. Мы должны рассматривать каждого больного как помощника врача по болезни и не забывать, что психиатрическая больница — не исправительно-трудовое заведение, где делают упор не на принудительное лечение, а на наказание. Не допускайте рукоприкладства даже по отношению к особо опасным диссидентам с манией правдоискательства и навязывания нам либеральных реформ. Химия дает более высокие результаты отворачиваемости от идеологических мотивов поведения и возомнения себя умом, честью и совестью нашей эпохи с бредом защиты Конституции… Перед вами больной Гринштейн, который кандидат на выписку из больницы… Гринштейн, поди-ка сюда поближе… тебя врач зовет.
Сердце болит глядеть на Гринштейна. Глаза пустые. Лицо отекло. Руки повисли. Губы шлямкают. Втупякин книгу ему под нос подсовывает для опознания, Конституцию новую СССР. Что это, говорит, за книга? Узнаешь? Ты же уверял нас в анамнезе, что ты ее наизусть знаешь…
— Ы-ы-ы, — мычит Гринштейн несчастный, — ы-ы-ы… «Возрождение»… «Малая земля»… «Целина»…
Тут Втупякин бурные аплодисменты срывает, как на съезде партии ты, маршал. Повышенцы мороженое лижут. Цирк у них тут.
— После усиленной блокады центров в умственной и идеологической агрессии у больных наступает положительная подавленность, переходящая затем с помощью общественных организаций и контроля органов в уравновешенное отношение к старым раздражителям, как то: политика нашей партии снаружи и внутри, эмиграция, свобода слова и соблюдение Хельсинки, — поясняет Втупякин.
Затем Степанова демонстрирует. Этот не расплылся вроде Гринштейна, а ссохся, почернел, постарел лет на тридцать, не преувеличиваю.
— Ну-ка, Степанов, расскажи нам, в чем задача советских профсоюзов?.. Дело в том, товарищи психиатры, что Степанов долгое время вел работу среди заводского персонала насчет создания профсоюзного контроля над прибавочной стоимостью и жилищным строительством, страдая с детства манией обличения руководства в злоупотреблениях и так далее. С чужого голоса пел… Как ты, Степанов, теперь понимаешь роль наших профсоюзов?
— Вовремя взносы надо собирать… руки прочь от Ирана кричать, — быстро так и озираясь проговорил Степанов.
— Вот и хорошо, дорогой. Скоро домой пойдешь, — Втупякин говорит.
Снова бурные овации. Но Ленин снова возникает:
— Да здравствует интервенция в Польшу. Положим конец вмешательству рабочих провокаторов в дело строительства польского государства. Защитим интересы братского народа от вмешательства империалистических подголосков типа Леха Валенсы в дела партии. Смерть крестьянам-кулакам, мешающим росту колхозного сознания в середняцких массах… Ура-а-а.
Опять хохот общий в зале.
— Руки прочь, — орет Маркс, — от прибавочной стоимости, выродки, оседлавшие вершины власти. Прочь. Привет молодому Марксу. Слава деньгам и товару в продуктовом ларьке. Чего ржете, филистеры поганые?
А смех еще громче в зале. Втупякин постучал ключом от отделения по графину. Марксу что-то сказал на ухо. Ленина одернул. Мне пальцем пригрозил, чтобы самовольно не выступал. Но я и сам плевать хотел на эту говорильню… Не до них было…
— На сегодня, товарищи, хватит. Не забудьте о неразглашении впечатлений, а то и так шибко много утечки информации. А ведь мы решением правительства приравнены к почтовому ящику первой категории. Враг пытается поставить себе на службу нашу паранойю, шизофрению и различные мании с депрессивными психозами… Зачеты буду принимать в среду…
Увели нас. И стал меня Втупякин из мстительности доводить химией и шоками до критического к себе самого отношения. Диссидентов же до того довел, что они на свиданке жен своих и матерей не узнали. Смотрят на них остолбенело и не узнают. Только загадочно улыбаются. Это нам с Лениным Маркс рассказывал, когда к нему баба приходила и передачу принесла…
Колет меня Втупякин, таблетками разноцветными пичкает и приговаривает:
— Забывай, Байкин, свой дурацкий синий платочек, поживешь ведь еще на пенсии инвалидной, покостыляешь по парку культуры и отдыха, пивка попьешь с баранками и сухариками черными с солью, я тебе добра желаю, хоть ты и всех ненавидишь, как крокодилов, чертяка безногая…
И начал я постепенно сдаваться духом. Унывать начал. Добились своего, паразиты. Сижу целыми днями в сортире, проклинаю себя за то, что с Леней фамилиями махнулся, жизнь Нюшкину загубил, на муки ожидания ее обрек, будучи живым и сравнительно невредимым, судьбу испоганил, отчество отцовское забыл, пока на митинге не услышал, вот до чего дошел, прохиндей… Мимо пронеслась геройская моя судьба, может, я певцом заделался бы вроде Трошина и басил по радио с голубыми огоньками: «Подмосковные ве-е-е-чера…» Мимо. Все мимо… Ужас… Ужас, маршал. Веревку из обивочных шнуров от дивана замастырил. Все, думаю, решено, фронтовой певец, мировая умница, кранты тебе приходят, не выдерживает твоя душа такого переживания нечеловеческого, зарыл ты имя свое в землю сырую, теперь следом туда полезай, никчемность и пьянь рваная, жена твоя в километре от тебя расположена, а ты до нее дотянуться не можешь. А если дотянешься, то права она будет, что счет тебе предъявит за холостые годы и ожидания, когда ты баб вдовых обслуживал по графику, дивизию целую безотцовщины наплодил, в книжках такого гада шалавого не встретишь. Нет тебе места среди людей, даже в такой пакости, как коммуналка, полная зловредных змей и гадюк… Умри, ешак безродный и бесстыдный гость на земле. Прочь уходи, горе бестолковое…
Не могу больше переживать. С ума и взаправду сходить начал. Хватит. Решился с некоторым облегчением принять к себе самые суровые меры. Время выбрал. Умылся с утра первый раз за два месяца. Зубы почистил. Бритву «Спутник» у Втупякина попросил. Щетину заскорузлую сбрил. Поел. Завтрак свой Ленину не отдал. А то отдавал от безразличия к пищеварению и с тоски. Маркс тоже без супчика моего в обед остался. Умереть, рассуждаю, надо всенепременно в форме и после оправки, чтобы все было в этот хоть момент красиво и порядочно. День танкиста, кажется, был. Тебе, маршал, бесстыдник ты все-таки, по телевизору еще одну бриллиантовую брошку навесили жополизы старые. Ах, так, думаю. Тут свою кровную звезду Героя не вызволишь, а ты себе присваиваешь награды погибших маршалов, генералов и солдат? Так? Ухожу из жизни, чтоб только не видеть позорища такого несусветного и такой неслыханной срамотищи, уйду обязательно. Вот день танкиста справим и уйду, вручай тут сам себе без меня хоть короны царские и сабли наполеоновские. Жаль, думаю, только, что не доживу я до исторического момента, когда тебя с настоящей манией величия положат на мою коечку и Втупякин начнет выбивать из твоей головы мысль насчет твоего значения для народа в войну, в возрождение и в борьбе за мир. Жаль.
Тут Ленин откуда-то выпивку приносит. Муть в бутылке, но чувствуется в ней весьма многообещающая дурь.
— Я, — говорит, — гульнуть сегодня по шалашу с полным разливом желаю. Вот вам спирт, кадетские рожи.
— Где вы достали его, Ульян Владимыч, — спрашивает молодой Маркс и добавляет: — Греческая философия закончилась бесцветной развязкой.