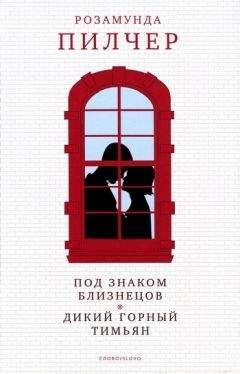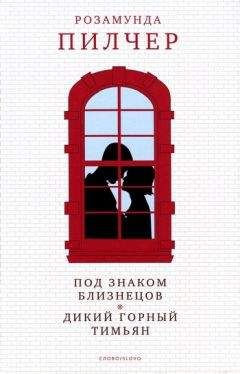Мама была в кухне — намазывала маслом свежеиспеченные ячменные лепешки.
— Быстро наверх переодеваться, — скомандовала она. — Скорей! Я все разложила у вас на кроватях.
Сама она — как я успела заметить — была в льняном платье цвета бирюзы с мережкой и в синих стеклянных бусах, которые отец подарил ей на день рождения. Надо заметить, это был ее лучший наряд. Для нас она приготовила хлопчатобумажные платьица с пелеринками — голубые в белый цветочек. Рядом лежали белоснежные носочки, у кроватей стояли красные туфли с ремешками на пуговках. Мы умылись и вымыли руки, и Джесси помогла мне расчесать волосы, густые и вьющиеся, в которые набилась уйма песка.
Пока мы одевались, подъехала машина. Она миновала подъездную аллею и остановилась у наших ворот. Открылась парадная дверь, и мы услышали, как мама приветствует гостей.
— Пошли, — буркнула Джесси. Мы уже подошли к лестнице, как вдруг она бросилась назад, вытащила из ящика комода золотой медальон на цепочке и надела его на шею. Мне тоже хотелось, чтобы у меня был медальон или еще какой-нибудь талисман, — для храбрости.
Они уже сидели в гостиной. Двери были распахнуты настежь, и мы слышали голоса и смех. Джесси, вероятно ободренная тяжестью медальона на шее, пошла вперед, а я, трепеща от страха, двинулась за ней. Проходя через двери, я услышала, как Ангус воскликнул: «О, Джесси!» — а потом стиснул ее в объятиях, словно она по-прежнему была маленькой девочкой. Я успела заметить, что Джесси при этом сильно покраснела. Потом я обвела глазами гостиную: леди Толливер удобно устроилась в нашем лучшем кресле, Дэйзи Толливер примостилась на низеньком пуфе, а у окна, спиной к саду, бок о бок сидели моя мама и… Амита.
Первое, что я заметила, было ее ярко-красное сари, надетое словно в знак протеста. Что еще можно было сказать о ней? Это была райская птица, слишком красочная, чтобы вписаться в традиционную английскую гостиную с ее приглушенными тонами, подсвеченными летним полуденным солнцем.
Она была невысокая, прекрасно сложенная, с гладкой темно-золотистой кожей, напоминавшей оттенком скорлупу коричневого яйца. Глаза ее казались огромными — темные, чуть раскосые, умело подкрашенные. В ушах сверкали серьги, на запястьях — браслеты, пальцы были унизаны кольцами, а на голых ногах красовались золотистые босоножки из тоненьких ремешков. Костюм был индийский, но волосы, очень густые, черные, вьющиеся, выдавали ее европейское происхождение. Они доходили ей до плеч и обрамляли лицо, словно у маленькой девочки. В руках она держала сумочку из золотистой кожи, а в воздухе витал едва различимый мускусный запах ее духов.
Я не могла отвести от нее глаз. Ангус и миссис Толливер подошли поцеловать меня, но я все время смотрела на Амиту. Когда меня представили ей, она не могла сдержать смех. Возможно, дело было в ее темной коже, но мне показалось, что никогда в жизни я еще не видела таких белоснежных зубов.
Она спросила:
— Может, мы с тобой расцелуемся тоже?
Меня очаровал ее голос — она напевно растягивала гласные, повторяя французские интонации.
Я сказала:
— Даже не знаю.
— Так давай попробуем.
Я поцеловала ее. Никогда раньше со мной не случалось подобного чуда; когда я ее целовала, потрясенная и околдованная ее красотой, внезапная мысль промелькнула у меня в голове — на мгновение, словно бабочка коснулась крылом и сразу упорхнула: Так в чем была причина всей этой бури?
Я мало что запомнила из того вечера, за исключением ощущения непривычной роскоши и красоты, которая ворвалась в скромный мамин домик словно порыв свежего прохладного ветра. Ангус, конечно, сильно переменился, но перемены оказались к лучшему: он стал мужчиной. Его мальчишеское очарование и беззаботность исчезли; в нем появились осмотрительность, сдержанность и какая-то внутренняя сила — возможно, то была гордость или чувство собственной значимости. Он казался выше ростом — странно, ведь по мере того как я взрослела, взрослые почему-то становились все ниже. Возможно, он и всегда держался так прямо и с достоинством, а я просто об этом забыла. Забыла, какие широкие у него плечи и какие красивые сильные руки.
Беседа за столом тоже была до ужаса изысканной. Они рассказывали о Венеции и Флоренции, где только что побывали, о картинах Эль Греко, которые посмотрели в Мадриде. Они ездили в Париж, и Ангус поддразнивал Амиту, потому что она накупила там кучу новых вещей, а она только посмеялась и сказала моей матери:
— Как это мужчины не могут понять, что мы просто не в силах устоять перед шляпками, и туфлями, и всеми этими модными магазинами? — Она сказала «магази-и-и-и-нами», и мы все рассмеялись вслед за ней.
Ангус сказал, что они собираются уехать из Индии и поселиться в Бирме, потому что он получил должность управляющего филиалом в Рангуне. Им нужно найти там дом; Ангус собирался купить небольшую яхту и грозился обучить Амиту ходить под парусом. От этого все еще больше развеселились, потому что Амита призналась, что от одного вида лодок на нее нападает морская болезнь, а самый активный вид деятельности, которым она когда-либо занималась, это перелистывание страниц в книге.
После чая мы вышли в сад. Леди Толливер, Дэйзи и моя мама разговаривали, а Джесси, явно простившая Ангуса и снова пребывавшая в великолепном расположении духа, присела рядом с ним и попросила рассказать какую-нибудь историю — про охоту на тигра или плавучие дома в Кашмире. Амита попросила показать ей сад, и я повела ее к клумбе с розами, пытаясь припомнить названия разных сортов.
— «Элизабет Глемис», а это «Эна Харкнесс», а вон тот маленький кустик называется «Альбертина». Он пахнет сладкими яблоками.
Она улыбнулась мне, а потом спросила:
— Ты любишь цветы?
— Да. Больше всего на свете.
Она сказала:
— В Ранкуне я устрою самый красивый в мире сад. У меня будет бугенвиллея и разные экзотические цветы, и жакарандовые деревья, и шток-розы в человеческий рост. На лужайках станут гулять павлины и белые цапли и повсюду будут круглые обсаженные розами озерца с отражающимся в них небом. Когда ты вырастешь, например, лет в семнадцать, приедешь к нам с Ангусом и я все это тебе покажу. Мы дадим в твою честь парадный обед с танцами и ночной пикник на берегу при свете луны. И вокруг тебя, словно мотыльки вокруг лампы, будут увиваться кавалеры, все по уши влюбленные.
Я смотрела на Амиту, ослепленная, загипнотизированная, и представляла себя семнадцатилетней, такой же красивой и изящной, как она, с пышными бедрами и тонюсенькой талией. Представляла своих кавалеров, высоких и стройных, в сверкающих одеждах. Слышала музыку, ощущала ароматы экзотических цветов, видела лунные блики на воде…
Она спросила:
— Ты приедешь?
Голос Амиты разрушил мой сон. В нем больше не было смеха. А в ее темных глазах стояли непролитые слезы. Я знала, что все это лишь мечты. У нее никогда не будет большого красивого сада в Рангуне, потому что жизнь, которую они с Ангусом для себя избрали, не подразумевает подобной роскоши. И я никогда не приеду к ним погостить. Она не осмелится обратиться к моей матери, а даже если и осмелится, та меня ни за что не отпустит. Амита просто позволила себе размечтаться — вместе со мной. Мне невыносимо было видеть ее такой опечаленной, поэтому я улыбнулась, глядя на нее, и сказала:
— Ну конечно я приеду. С огромным удовольствием. Я хочу этого больше всего на свете.
Она тоже улыбнулась, сморгнув набежавшие слезы. Потом взяла мою голову руками и заглянула мне в глаза.
— Когда-нибудь у меня тоже будет дочь. И мне бы очень хотелось, чтобы она была такая же славная, как ты.
Внезапно мы обе почувствовали, что стали очень близки. Мне казалось, я знала ее всю свою жизнь и буду знать теперь всегда. И в это самое мгновение я с пугающей уверенностью осознала, насколько все они были неправы. Мои мать и отец, и Толливеры, и их родители, и прародители до них. Их вековые предрассудки, их снобизм, их традиции распались у меня на глазах как карточный домик.
Благодаря Амите я узнала правду, таившуюся за давними детскими переживаниями, и она изменила всю мою жизнь. В чем была причина всей этой бури? — спрашивала я себя и отвечала: Ни в чем. Люди — это люди. Плохие и хорошие, белые и черные, но, вне зависимости от цвета кожи, от веры и традиций, всем нам есть чем поделиться с другими и чему поучиться у них, пусть даже просто жизни как таковой.
Перед отъездом Амита спустилась к машине и вернулась с двумя коробками — для Джесси и для меня. Когда Толливеры уехали, мы открыли коробки и обнаружили в них кукол. Мы никогда не видели таких: куклы были взрослые, очень тщательно сделанные и красиво наряженные. У них были накрашены ногти на ногах из папье-маше, а в ушах сверкали серьги. Остальным нашим куклам мы сами придумывали имена — обыкновенные, вроде Розмари или Димпл, но куклы Амиты так и остались безымянными. Мы никогда не играли с ними. Их убрали в застекленный шкаф в нашей спальне вместе с кукольным сервизом, подаренным бабушкой, и вырезанными из дерева фигурками животных, которые прислала нам тетка.