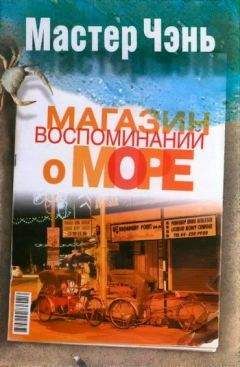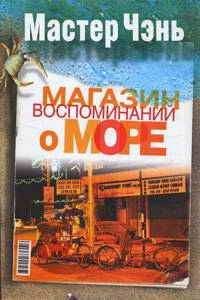— Да, я помню эту сцену. И что?
— Я просто хочу его увидеть. Или то место, где этот магазин был. Вот жрет он меня, понимаешь? Не дает забыть. Сам виноват.
Море: вам некуда деться от него, если вы в Пенанге. А если вы приехали в июле-августе, то вам некуда деться также от арабов, и именно у моря. В Аравии в это время — плюс пятьдесят в тени или что-то около, так что в братскую мусульманскую Малайзию с ее тридцатью градусами они приезжают за прохладой. Саудовцы, кувейтцы, дубайцы, все прочие — и еще иранцы… Аэропорты, лобби отелей, пляжи — везде эта толпа бородатых и носатых смуглых личностей мужского пола. Каждого окружает выводок из трех-четырех личностей пола противоположного, в черных накидках от макушки до пят, только два хлопающих удлиненными ресницами глаза горят любопытством сквозь амбразуру этого наряда.
И вот утро, балкон отеля «Фламинго» — белое кружево этажей, громоздящихся рядами; внизу, под балконом, — плавный полукруг бледно-бежевой неподвижной воды, на дальнем берегу бухты — небоскребы Танджун Бунга; небо расчерчено облаками, а гладь воды — лодками. Пустота, ни одного человека на пляже, только арабка без лица, как одинокое черное пятно, сидит на пластмассовом стульчике в робком прибое, и черные полы ее хиджаба плавают в пене.
Крейсер ушел под воду — среди зеленоватых колонн взрывающейся воды — не здесь, а несколькими километрами дальше, справа, у самой Эспланады, у форта Корнуоллис, в гавани Джорджтауна.
Город-музей, Джорджтаун, странная пустота улиц, заново покрашенные дома, деревянные ставни окон со здоровенными крючками запоров. Дерево — где серое от времени, где — свежее, лакированное. На кромке косой крыши — три деревца, от них по стене до тротуара спускаются тонкие нити лиан.
— Три больших квартала до магазина воспоминаний. В путь… Так вот, Лилиана Леонг, которая, как ты правильно заметил, странным образом прикасается на публике к фарангу с китайским псевдонимом. Дело в том, что Лилиана — кроме всего прочего — издатель. А еще она тот самый человек, который когда-то показал мне Джорджтаун, выдал толстую пачку копий материалов. А еще она написала великолепную книгу «Улицы Джорджтауна», а еще ее муж Лубис возил меня в местный университет, чтобы я почитал там британские газеты 1929 года, — в общем, того самого романа без этой пары не было бы. И вот, прощаясь, она обронила одну фразу: «Ну, хотелось бы, чтобы вы и меня рассмотрели в качестве потенциального издателя этого романа на английском…»
— А ты попытался найти кого-то получше, — мгновенно угадал Евгений.
На самом деле история была куда сложнее. Я не пытался найти кого-то получше. Пытались другие. Пенангский роман вышел на русском; российское посольство в Куала-Лумпуре сделало из этого события серьезный пункт своей программы работы под грифом «культурное сближение двух народов». Роман должен был выйти на английском и малайском сразу. На эту тему посольством были начаты серьезные переговоры с издательствами — куда большими, чем у Лилианы Леонг.
Издатели в Малайзии, однако, не привыкли, чтобы русские авторы писали романы о том, что происходило в их стране при британцах. А хуже всего то, что издатель должен как минимум прочитать книгу. Но Куала-Лумпур — не Лондон. Здесь некому читать книги на русском и давать им внятную оценку. Пакет презентационных материалов на английском, даже с парой переведенных отрывков, — этого было недостаточно. Отчаявшееся посольство вынесло вердикт: автору — перевести книгу, без этого ничего не получится.
— Догадайся, что я сделал, — сказал я Евгению.
— Перевел, — ответил он, с любопытством оглядывая здания бывшей Бич-стрит — ныне джалан Пантай.
Да, я сделал именно это.
Я перевел роман сам.
До сих пор не знаю, как я пережил тот странный и бессмысленный год. Роман про португалку из Джорджтауна и ее британского возлюбленного хорошо продавался и читался; умные критики высказывали свои восторги, глупые не говорили ничего; но и только — мир не перевернулся.
Когда ты выпускаешь книгу, в твоей жизни возникает пустота. Ты ходишь по знакомым улицам, всматриваешься в лица и думаешь: как же так, вот ведь оно появилось в этом мире — звенящее страстными словами, переполненное людьми, которых еще год назад не существовало, дышащее забытой музыкой, — а люди на московском бульваре так же идут по своим делам. И мир тот же. А этого не может и не должно быть.
Надо было писать следующую книгу, но эта не отпускала. И я, не зная, что дальше делать в этой жизни, все лето переводил роман про женщину из Джорджтауна с русского на английский, как мог, — а этого нельзя допускать ни в коем случае, если ты не природный англичанин, — и отправил в августе издателям в Куала-Лумпур.
И наступила глухая и бессмысленная осень.
И пришел предсказанный в моей книге мировой экономический кризис (не зря же действие там происходит в последние недели перед тем, что произошло осенью двадцать девятого). И малайзийские издатели разом замолчали.
Ни один не сказал «нет». В Азии так не делается, это невежливо. Они не сказали ничего. Может быть, им не понравился перевод — что понятно. Может быть, им не понравилось их финансовое положение, не располагавшее к авантюрам типа издания русских романов о Британской Малайе, ныне Малайзии.
Три месяца непрерывной работы, которую не следовало и начинать, — и все впустую.
Мир сидел и боялся кризиса. А Лилиана Леонг — ну что я мог ей сказать? Что мне следовало бы знать: людям из семьи Леонгов в Джорджтауне не говорят «нет», и я это знал?
Мы поздравляли друг друга с праздниками по почте. Потом перестали. Она уже знала, конечно, что я потерпел неудачу. А в Азии таких не любят.
— Очень не любят, — подтвердил Евгений.
А потом от Лилианы все-таки пришло письмо. Она решила издать книгу про русский крейсер в Пенанге. Она нашла автора — англичанина, Джона Робертсона, он писал текст и завершал работу. У нее было множество фотографий города в 1914 году. И она — хотя раньше ни слова не говорила, понравилась ли ей моя книга, — она упомянула, что крейсер в этой книге есть, так что я должен хорошо знать, о чем речь.
Конечно же, он там есть. Из тех самых эпизодов, которые как бы лишние, к сюжету прямого отношения не имеющие.
«Война — настоящая, а не война китайских триад — на нашем благословенном острове, за всю его историю, длилась несколько минут. Мне, родившейся в 1900 году, тогда было целых четырнадцать лет. И я помню ночь перед самым сезоном дождей — в конце октября — и этот резкий грохот, как будто обрушилась куча камней, а потом еще несколько таких же ударов чуть потише, и опять один громкий удар. Я все-таки тогда заснула, а утром мне сказали, что чуть не к самым причалам Суэттенхема прорвался германский крейсер „Эмден“, который приделал себе четвертую, фальшивую трубу, отчего его приняли за британца. И этот „Эмден“ всадил две торпеды в бок русскому крейсеру, который пришел сюда на ремонт, всего с одним годным котлом из шестнадцати, и стоял недалеко от берега под охраной французов. Ну а французы свою задачу провалили.
До сих пор не могу выговорить странное, шипяще-жужжащее название этого крейсера, означающее всего-навсего „жемчуг“. Если бы он был малайским и если бы у малайцев были свои, а не британские крейсера, то он назывался бы прекрасным словом, значившим то же самое, но звучавшим как „мутиара“.
Потом многие говорили, что русский крейсер пошел ко дну с честью, потому что все-таки успел сделать несколько выстрелов — те самые удары потише, что слышались мне. Правда, непонятно, что это за честь такая, тем более что германец все-таки ушел. Но тогда, уже наутро, эта сторона дела меня вообще не волновала. Потому что прошел слух, что восемьдесят русских моряков убиты, многие спаслись невредимыми, а больше сотни — это те, спасать которых вышли в ночь все сампаны порта, но тащили их из воды обожженными, контужеными, порезанными осколками. А потом, по одному, на рикшах и телегах, везли в городской госпиталь.
И мы, дети и подростки, бросили все и не вылезали недели две-три из госпиталя, таская выздоравливавшим русским фрукты, рис, лепешки и что кому приходило в голову. Я долго сидела между двумя такими моряками и учила их португальскому, кормила, пела песенки — и они выздоровели. А один, лежавший в углу, сначала молчал, потом долго и страшно кричал, а в конце концов оказалось, что он умер. И с тех пор война для меня — это когда человека могут спасти из воды и привезти к хорошим врачам, а он все равно умирает.
Как звали тех, кто выздоровел, я вспомнить не могу, а вот того, кто умер и был увезен на христианское кладбище, помню даже сегодня, хотя это имя очень трудно произносить: Гортсефф.
Я и сегодня боюсь войны, этих десяти минут грохота, после которых идут недели боли и стонов».