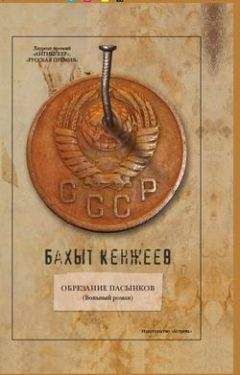Умение, вернее, дар любить, как Паоло - Франческу, или Розенблюм - свою чахоточную Софью Яковлевну, с каждым годом, вероятно, ослабевает в моем сердце. Однако той зимой оно безраздельно принадлежало Тане Галушкиной, а значит - и той самой алхимии, которую ни в старой, ни в новой школе не преподавали даже факультативно. Впрочем, я снова лукавлю, вероятно. Истинная любовь требует равенства, а не поклонения. Между тем Таня оставалась второй красавицей покинутого мной класса, профессорской дочкой, по-прежнему дружившей и с неприступной Мариной Горенко, и с моими обидчиками, и порою я мучительно опасался, что наша крепнувшая дружба была лишь еще одним способом, которым всесильное провидение хотело подвергнуть унижению щуплого подростка из хрущевской пятиэтажки. Призрак Жюльена Сореля, вероятно, с тайным удовольствием наблюдал за мной, когда я, не дождавшись лифта, подымался по лестнице жилого корпуса Московского университета, по дороге тщательно отряхивая хлопья тающего снега с кроличьей ушанки, с подбитого ватой пальто, с ботинок на длинных шнурках; нажимал на потертую медную кнопку звонка, вступал в казенную квартиру, украшенную казенной же основательной мебелью, протягивал руку Серафиму Дмитриевичу, всерьез носившему черную академическую шапочку, и редко встававшему от насекомоподобного ундервуда, такого тяжелого на вид, что он казался отлитым из чугуна. Но я вовсе не хотел походить на Жюльена Сореля, я был внимательным и жадным до жизни мальчишкой, и в один из своих визитов в дом Галушкиных едва ли не два часа подряд вместе с восторженной Таней рассматривал под старинным бинокулярным микроскопом, сияющим начищенной латунью, образцы металлических лигатур. При тысячекратном увеличении уже трудно было поверить, что разглядываешь отшлифованную поверхность металла - взгляд терялся в хитросплетениях лабиринтов, пещерок, выступов, теней, отбрасываемых как бы инопланетными сурьмяными холмами на оловянные провалы. Микроскоп электронный без труда обнаруживал в этих образцах вкрапления серебра (результат, подтвержденный данными спектрального анализа), заведомо отсутствовавшего в исходных элементах.
" Вы верите, что это те самые образцы, о которых мы писали в Alchemistry Monthly? - осведомлялся за вечерним чаем профессор Галушкин.
"Я, Серафим Дмитриевич, глубоко верю в силу положительного знания," - отвечал я столь же претенциозно, сколь уклончиво.
"Это не по нашему департаменту, Алеша, - при этих словах Серафим Дмитриевич почему-то протянул мне вазочку с печеньем, - вряд ли алхимия когда-нибудь станет отраслью положительного знания. Не зря так достается нам на любом студенческом капустнике. Науке уже едва ли не две тысячи лет, а мы до сих пор, в сущности, блуждаем в потемках." "Почему же в потемках," - дипломатично возразил я, "и потом, не все же над вами смеются."
"Принцип неопределенности в модной квантовой физике вызывает у профанов уважение, восторг, всплеск религиозного чувства - все что угодно, кроме скепсиса, - продолжал Серафим Дмитриевич, словно не услышав моих слов. - Принцип Кавасаки, казалось бы, с философской точки зрения, то же самое. И тем не менее, толпа немедленно узрела в нем доказательство нашей бесполезности. Вы слыхали, как полтора года назад нашу кафедру едва снова не закрыли?"
Окна казенной квартиры выходили на огромную площадь перед высотным зданием университета, и из столовой, изловчившись, можно было увидеть титанические часы на вершине одной из башен, и столь же гигантский барометр со светящейся электрической стрелкой, а у подножия башни - бетонные изваяния молодых людей работы скульптора Жуковкина, сжимавших астролябии и пухлые ученые фолианты. Вечер стоял бесснежный и морозный. Одинокие фигурки студентов, а может быть, аспирантов или преподавателей, огибая изваяние Ломоносова в самом центре ветреной площади, направлялись с физического факультета в главное здание, и кутались в черные овчинные воротники старомодных пальто. Я кивнул, хотя о самой статье японского магистра знал только по сравнительно недавнему фельетону в "Комсомольской правде".
"Бог мой, - вдруг добавил Серафим Дмитриевич, - как пришлось нам с Михаилом Юрьевичем врать в докладной записке! Даже доказывать, что вся статья инспирирована американской разведкой, заинтересованной в подрыве советской алхимии."
"Ну почему же врать? - Серафима Петровна (волею судеб супруги были не только коллегами, но и тезками) покосилась на меня и на Таню, и сделала едва приметное движение бровями.
Как бы опомнившись, профессор Галушкин вдруг потянулся к квадратной бутыли зеленоватого, с неровной поверхностью стекла, налил из него несколько капель легкотекучей жидкости в серебряную стопку, и мелкими глотками выпил, не провозгласив никакого тоста.
Даже когда за чинным семейным столом Галушкиных царило молчание, я не скучал, потому что меня обычно сажали на диван, напротив стены, почти сплошь уставленной застекленными книжными шкафами, а в промежутках - завешанной старинными алхимическими гравюрами в золоченых рамках. Особенно засмотрелся я в тот вечер на оригинал одной из классических иллюстраций к "Двенадцати ключам Василия Валентина" - распушивший хвост петух с жилистой шеей, налетающий сверху на тощую лису, несущуюся куда-то с тем же самым петухом в зубах, и на заднем плане - холмы, заставлявшие вспоминать о Брейгеле-старшем, и небольшой одинокий замок на вершине одного из них. Я уже знал, что художник имел в виду растворение и осаждение, которые в сегодняшней неорганике числятся в процедурах самых прозаических, но гравюра вовсе не касалась неорганики, ни вчерашней, ни сегодняшней, и не зря на самом первом плане изображения щерился дракон с кожистыми крыльями и вьющимся хвостом, похожим на крысиный: символ опасностей, подстерегающих адепта, и недостижимости успеха. Знал я также, что летучую жидкость из квадратной бутыли Серафим Дмитриевич изготовляет в лаборатории сугубо для личного потребления, по всем классическим правилам своей науки, и что он безумно рассердился бы на профана, который простодушно спросил бы его о разнице между его аквавитом и обыкновенным этиловым спиртом - поскольку никакой классический анализ этой разницы установить бы не смог. Однако же вопросом чести при получении аквавита (объясняла мне Таня, поблескивая чудными серо-зелеными глазами) было довести его до такой степени чистоты, чтобы в конечном продукте не имелось даже намека на запах, вкус или цвет любой из тринадцати трав, участвовавших в перегонке. Закрытая докторская диссертация Серафима Дмитриевича была, к слову сказать, посвящена расшифровке и переосмыслению средневековых рецептов, требовавших включать в исходную смесь цветок папоротника - вещь, как известно нынешней науке, чисто воображаемую. Государственная (бывшая Сталинская) премия, которую он получил за это исследование, немало способствовала созданию кафедры, и профессор, как я теперь понимаю, отчасти кокетничал, жалуясь на преследования - наши престарелые и немощные руководители весьма дорожили не только аквавитом, но и другими снадобьями с опытного предприятия в Барвихе, на котором медленно, но верно внедрялись достижения отечественной алхимии.
Так длился мой невинный юношеский роман с длинноволосой дивой и в то же время - с чудной и загадочной наукой. Серафима Петровна и Серафим Дмитриевич после чая уходили на весь остаток вечера в комнату, служившую кабинетом им обоим, а мы с Таней сидели рядышком на диване, лоснящемся черной кожей, взахлеб обсуждая все, что полагалось думающим подросткам шестидесятых годов. При всем занудстве я был сообразительным мальчишкой, и однажды Таня, краснея, сообщила, что я нравлюсь ее родителям куда больше, чем также бывавший у них Коля Некрасов. Стоило мне услыхать это имя (в разговорах с Жуковкиным оно никогда не всплывало), и я с ревностью вспомнил, что за моей спиной продолжалась жизнь неприступной компании - с вечеринками на пустых родительских квартирах, истерическими спектаклями театра на Таганке (истерика начиналась задолго до самого представления, уже на улице, где приходилось продираться сквозь тесную толпу жаждущих лишнего билета), грохочущими концертами полузапрещенных рок-групп, с субботними походами в "Хрустальное" или в "Лиру" - чего я не мог бы себе позволить не только из-за бедности, а еще и потому, что меня бы туда попросту не пустили по внешней молодости лет. Мой соперник приносил к Галушкиным прозрачные плексигласовые бобины с записями рок-музыки, Окуджавы и даже "Битлов", мода на которых захлестнула тогда мое несчастное отечество, и униформой его были джинсы "Ливайз" (мечта любого подростка, но не такая уж редкость в тогдашней Москве) и джинсовая куртка той же фирмы (редкость первостатейная), и если уж выходил он тайком от Таниных родителей покуривать на лестницу, то безошибочным, выверенным жестом разрывал целлофановую обертку на припасенной загодя ладной красно-белой пачке "Marlboro", и, несомненно, сам напоминал бы бесстрашного ковбоя из реклам, если б только были эти рекламы известны в том невозвратном городе, затерянном в ласковых и беспощадных снегах среднерусских равнин.