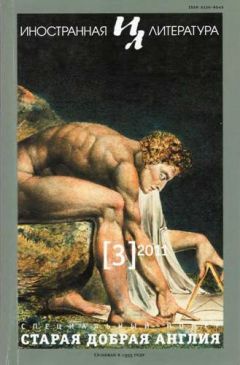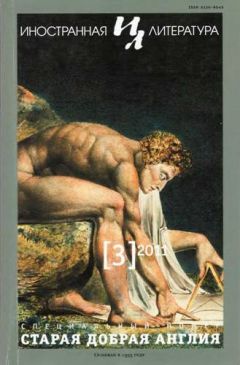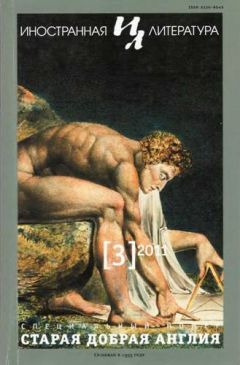— Тогда мы с тобой будем жить вдвоем, мам?
— Если захочешь, детка. — С нежной улыбкой. — Если я тебе буду нужна.
— Будешь нужна? — вот уж совсем непонятно. — Да что такое ты говоришь?
— Ты, может быть, захочешь жениться, знаешь.
— Никогда я не захочу. Лучше я останусь с тобой.
— Ох, но я ведь хотела бы, чтоб ты женился. Мне хочется стать когда-нибудь бабушкой.
— Ну, предположим, я даже женюсь, ни малейшей не вижу разницы.
Она тогда расхохоталась. На нее редко нападала такая веселость; но он-то принял ее слова более или менее всерьез и немножко обиделся.
Но Кент меж тем тронул шапку кнутом, сказал: «Спасибоч-ки, мастер Эрик» — и мастер Эрик снова полез в викторию, заперев ворота. Поехали парком, где выучена наизусть каждая черточка пологого убористого пейзажа. Сзади лес, снизу уже высунулись трубы Холла. Тень листвы на разбитой аллее. Что я сделаю, когда все это будет мое? Подновлю, наверно, аллею. Или имя на объявлении переменю, вместо Джона сделаю — Эрик Верной? Нет-нет, не надо, нельзя ни к чему прикасаться. С детства этот страх суеверный, может быть, подогретый мамиными наставленьями: не дай Бог трогать прошлое. Опять я о маме, вечно о маме.
Я всегда буду с ней, пообещал сам себе, и почемуто стало ужасно грустно, даже слезы выступили на глаза.
Вдруг решившись, подался вперед, спросил:
— П-п-п-ойдем п-п-пог-г-г…?
— Глубоко вздохни и считай, детка, — сказала Лили. Он глубоко вздохнул и сосчитал до двадцати.
— Пойдем п-погулять сегодня после обеда, мам? Она улыбнулась, так грустно, так нежно.
— Если ты хочешь, детка, — слегка вздохнув, — и если мамочка будет не очень усталая.
Хрупкая, непрочная, как листок. Ах, как неловко опять получилось. Вовсе ей не хочется. Она устала. И ведь она, с нее станется, все равно пойдет, просто моего удовольствия ради. Нечего было спрашивать. Сплошная нечуткость. Конечно, после этой длиннющей службы она дико устала.
А внутренний голос нашептывал: вот она не захочет гулять, и пойдешь ты к тете Мэри.
Поскорей надо в себе подавить гнусный голосок. Нет уж, ни за какие коврижки к тете Мэри я не пойду. Сегодня такой день. Нельзя. Из уваженья к отцу. Маме было бы неприятно. Сегодня надо побыть одному, с мыслями об отце. Подлость — сегодня идти к тете Мэри. И зачем только она пригласила? Просто забыла, что ли, — вдруг, на минуточку. Сама бы сочла меня абсолютным ничтожеством, если бы я вдруг заявился.
И там Эдвард Блейк будет, напомнил себе Эрик, выискивая хоть что-нибудь такое, что умалило бы невыносимую притягательность теткиного дома. Эдварда Блейка он ненавидит. Тут и ревность — Скривены его встречают с таким восторгом. Особенно усердствует Морис, кажется, потому, что тот творил чудеса на войне, в авиации. Получил ЗБС[22] и Военный крест. Даже чуть ли не был представлен к KB[23]. Кучу немецких самолетов сбил. Герой. И хоть, в общем-то, пожилой человек, лысоватый, и седина на висках, а такие чудеса вытворяет — сальто над спинкой стула, прыжок стоймя через стол. А, да причем тут ревность. Терпеть его не могу. Не верю ему. Насмешка над всем и вся, в том числе надо мной, вечно стоит в большущих, зеленых, воспаленных глазах. Одно непонятно, и что отец выискал в этом Эдварде Блейке, почему с ним так невозможно близко дружил.
Но мы уже у самого дома, снова мне открывать ворота. Миссис Поттс и миссис Беддоуз ждут на крыльце — значит, мы опоздали-таки к обеду.
С самого начала войны дед стал обедать в комнате, которая раньше называлась курительной. В столовой теперь обедали только по воскресеньям. Чересчур она велика для троих, для двоих и подавно, и в представлении Эрика прочно связалась с гостями, с долгой чередой блюд, с бесконечным торчанием за столом. Вдобавок, теперь вошло в моду, считалось почему-то такое патриотичным использовать комнаты потесней; как вообще считались патриотичными любые, бесполезные действия — лишь бы себе же хуже.
Но к этой курительной Эрик вполне притерпелся. Во-первых, уже сложился обычай — в курительной можно не ждать, пока покончит с едой дедушка. Это придает трапезе известную прелесть, свободу, почти как на пикнике. Дед сам на них машет тяжелой, в веснушках, рукой — мол, не ждите, пока доем сладкое.
Ох, и он же вечно просит добавки. И роняет вставные зубы. Как они плюхаются на тарелку. Мама притворяется, что ничего не заметила. Миссис Поттс подступает с салфеткой наготове: стирать роковые пятна сливового мусса с рубашки; миссис Беддоуз возводит глаза к потолку с трагикомичным смиреньем. А деду, видно, все это кажется милой шуткой. Хохочет, не делает ни малейших попыток замять безобразие.
Дед сильно бы облегчил себе жизнь, если бы не спускался к чаю. Или хоть не взгромождался к себе на верхотуру после обеда. Но ритуал сошествия к чаепитию незыблем, видимо, в память бабушки, которая на него напирала. Вечно, помнится, гоняла Эрика: «Сбегай-ка ты наверх, скажи дедушке, что мы его заждались. Не можем же мы без него начинать».
Бабушку он ненавидел. Злобная, с подковыркой. И мама может сто раз повторять, что у нее был «удивительный интерес к жизни». Просто дикая эгоистка, и все, — беспощадно постановил Эрик.
Мама весь обед промолчала. Все ясней и ясней было видно, как ужасно она утомилась. Обычно она много разговаривает с дедушкой, и так воодушевленно, будто он гость. Эрика всегда восхищает мамина способность вести беседу. Это прямо изумительно. С интересом ловить каждое слово деда, весело хохотать над его смешными историями, которые лично Эрику даже при первом исполнении не показались уж такими забавными.
Миссис Беддоуз внесла сладкое, Эрику вспомнились дни, когда он, еще маленький, считал обед логическим следствием своих утрешних личных усилий — едва кончив завтракать, спешил вниз, на кухню, потом несся наверх, вслед за горничными, присмотреть, как метут и блистят, передразнивал их, ползая на четвереньках, так что изучил все ковры, половики и дорожки в разных частях дома. В одиннадцать горничные возвращались на кухню — пить какао. Он не уходил, оставался, наблюдал, как готовят обед, отмеривал из жестянок изюм и коринку, иногда допускался даже и к мясорубке, промалывал мясо. А потом, когда обед был готов и подан, переглядывался с девушкой, прислуживавшей у буфета, в том смысле, что «не зря мы потрудились, а?»
Бабушка всему этому разом положила конец. Не одобряла якшанья с прислугой. Очень хорошо. Но теперь вообще не с кем стало играть, кроме изредка заезжавших к чаю гостей, соседских сынков, с которыми абсолютно не хотелось иметь дела, даже если сами они, в виде исключения, были не прочь пообщаться. Ах, если б здесь тогда жили Скривены!
Ну вот наконец-то кончился этот обед. Лили выплыла из комнаты, медленно пошла вверх по ступеням. Кажется, глубоко задумавшись.
Он пошел за ней. Не стану даже поминать насчет прогулки, если сама не заговорит, — так он решил. Зачем приставать. Человек отдохнуть хочет.
Вот дошла до своей двери, обернулась, спросила:
— Чего тебе, детка? Я хочу немножечко полежать. Он выпалил, не успев спохватиться:
— П-п-просто я х-х-хочу знать, х-х-хочешь ты сегодня гулять или нет, в-в-от и все.
Она помешкала, улыбнулась:
— Ну, детка, если тебе так уж хочется. Но я ужасно устала.
— Ах, н-н-нет, т-тогда, конечно, н-не надо.
Он ужасно покраснел. Лицемер и обманщик. Просто сволочь. Чуть силком гулять не потащил, исключительно ради очистки совести. Она его поцеловала с улыбкой. Он неловко повернулся, прошел медленно по коридору, вниз по главной лестнице, в сад.
Сад притих на припеке. Конюшенные часы пробили половину третьего — так падает камень в глубокую воду. Решил: не пойду.
Побрел по тропке к забору, туда, где калитка ведет на конюшенный двор. Да ладно, он думал, вот уж действительно, столько шуму из ничего. Ну не нужен я маме сегодня. Почему не пойти? Глупо предполагать, что отцу якобы могло бы показаться обидно. Чушь сплошная. И при этом решении прямо груз спал с души, хотя было ясно, конечно, что совесть снова проснется, с новой силой примется грызть и замучит вконец.
Как в памяти живо то время, когда Скривены только еще переехали в Гейтсли. Прежде об их существовании было что-то совсем не слышно. Известно было, что имеется тетя, двоюродные брат с сестрой, но поминалось о них редко, и уж тем более в Холле они не показывались. Потом однажды мама сказала: «Скоро ты увидишь свою тетю Мэри». Но особенно не распространялась. На вопросы отвечала уклончиво, скупо, но почему-то чувствовалось, что она и сама ждет этой встречи с волненьем. И еще чувствовалось, что мысль о свидании с родственниками не очень ее греет. Она была настороже, как-то, пожалуй, даже враждебно настроена. Оставалось заключить, что с тетей Мэри, видимо, связано что-то предосудительное и что с окончательным суждением придется пока подождать.