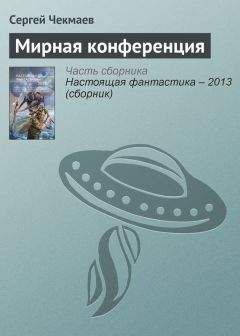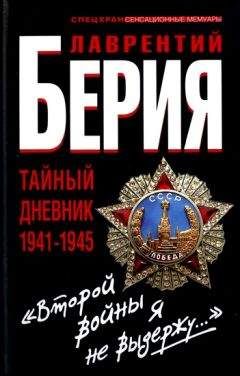— Она учит всему наших молодых девок, гадать, разговаривать. Все знает, только сколько ей лет теперь, никто не знает точно.
— Что, что она не захотела сказать мне? — настаивал я.
— Не знаю, чаже.
Яша отвел взгляд, принялся поправлять костер, хотя там совершенно нечего было поправлять.
— Не знаю. Если она сказала «не скажу», значит никому никогда не скажет, хоть ты ее убей. Мы сами иногда ее боимся. Даже мне не скажет. Эй! — крикнул в лес Яша.
Среди веточных переплетений кустов появилось лицо горбуньи.
— Я-а-ашенька, Яшенька, — словно бы проблеяла она, — нам уходить отседова надо, уходить.
И — исчезла.
— Уходить? — пробормотал Яша. — Значит, надо уходить.
Нас окружили державшиеся поодаль дети. Удочки, цветные поплавки на них, спиннинг и разные рыбацкие причиндалы вызвали такой же бурный и попрошайничий интерес, как недавно велосипеды, уже позабытые, валявшиеся поодаль.
Леша совершенно освоился и уже сам лично раздавал крючки, грузильца, отмеряя каждому метры лески. «Ага, ему зелененькая, а мне не зелененькая», — хныкал один.
Я, конечно, немножко позабавлялся: просил цыганят спеть что-нибудь, сплясать. Репертуар оказался однообразный. Появилась размалеванная петухами балалайка. Лишо, сияющий, с теплыми нежными глазами, принес маленькую гармошку-тальянку, и наигрывал лихо, пританцовывая и лопоча по-цыгански. «Ай, нэ-не-нене, ай, нэ-не», — подпевал я и хлопал в ладоши. Лишо восемь лет, но он не умел читать и писать, он умел только развлекать, и выглядел как ровесник Алеши, только сильно худенький и загорелый.
Вообще, образовалась развеселая кутерьма, и Лишо уже учил Лешу играть на гармошке, Михай на балалайке; чего-то попискивая, кружилась маленькая Тинка. А потом опять, с криками и спорами, до полного изнеможения и предельной чумазости носились на велосипедах, и я не всегда различал в шумной и так нравящейся мне толпе своего сына.
Разомлевший от неожиданной, острой и обильной цыганской еды, солнца и смутных мечтаний о вольной кочевой жизни, возлежал я у костра и посматривал на грациозную Наташу, сестру Лишо, зрелую девушку лет пятнадцати. Именно она встретила нас при въезде на цыганскую поляну, а теперь чуть кокетничала издалека, роковая Кармен, хотя давешняя старуха-колдунья, высовывалась из шатра и строго ей выговаривала, грозя смешным маленьким сухоньким кулачком. Надув губы, Наташа исподлобья оглядывалась на нее, хмурясь на мгновение, исчезала — и снова, улыбающаяся, белозубая появлялась из-за полога повозки, ублажая взгляд и волнуя воображение мое, мессионера и романтика. «На степи молдаванские всю ночь глядит луна, одна лишь жизнь цыганская беспечна и вольна, — вспоминал я, — там душу не коверкают, заботы гонят прочь, цыганскою венгеркою встречает табор ночь, тарари-та-та…» Цветастого платка на ее бедрах не было, только плотная юбка. Грудь туго перевязана крест-накрест шалью с золотистым люрексом и пурпурными розами по черному полю. Глаз не оторвать! «Ай-нэ-не… Сама зима, знать, намела два этих маленьких холма… Как пели скрипки в вышине, Кармен, я твой навек, я сам такой, Кармен… Только бы не заснуть».
— Гы! Рырры-ры! — донеслись старухины увещевания.
Пришел худенький, маленький и совершенно рыжий цыган по имени Лойза со своей дочкой Тинкой. Она, как котенок, сидела у него на руках. Лойза был малость навеселе. Уморительно рассказывал о своих двух предыдущих женах, которые, оказывается, тут же, в этом таборе, и он их не обижает вниманием и лаской, но всех троих не отдаст за свою Тиночку. «Она у меня одна, другие не рожали». Девчушка же, странно пластичная, неестественно гибкая, подвижная, как ртуть, тоненькие ножки и ручки, ползала по папе как муравей или змейка, и ласкалась, то ли подпевая, то ли поскуливая, она, казалось, могла бы поместиться под мышкой у Лойзы. Колтун в густых волосах, матовая бескровная кожица на личике и шейке, просматриваются голубые сосудики. Годика четыре? Оказалось шесть, седьмой. «В больнице, — рассказывал Лойза, — хотели доченьку отнять, говорят биркулез, а откуда биркулез, вон какая веселая и не кашляет. Она у меня по уголькам может бегать. Показать?»
— Не надо! — замахал руками я. — Верю, верю.
— Мы всем табором стояли у больницы, пока ее мне отдавали обратно.
На запавших щеках Лойзы был яблочный неровный румянец пятнами, высокий восковой лоб контрастировал.
Да, но куда же запропастилась роскошная Наташа, мечта моя несбыточная романтическая?
Прибежал чумазый, вымокший Лешка.
— Папа! У, мы там… вообще…
Пуговки на курточке поотлетали, карман надорван, и взор его уже был свободен, а скорее диковат.
— Лишо во что мне подарил! А я ему свой ножик, наш ножик и удочку, у нас же дома еще есть! А потом автомат дам, с батарейкой, который сто двадцать выстрелов в минуту. Папа, у них тут ни одного мячика нету!
Подарок Лишо: кусок доски, к ней огромными коваными гвоздями приделано четыре колеса с толстыми шинами, от детской коляски, спереди что-то вроде кочерги, за которую можно держаться, когда катаешься, — самокат, в общем.
— А я ему завтра, мы ему, всем детям игрушек привезем, да, папа? У меня много. А у них тут ничего нету, ну прямо даже ни одного мячика.
Цыганята замолкли на мгновение. И — загалдели, запрыгали, ошалев от неожиданного обещания. Хотя и померещилось мне в один момент, что некоторые не столько обнимались в радости, сколько как бы отпихивались друг от друга, злились, с голодным азартом заранее деля еще не существующие игрушки. И все-таки как хороши были все они — неподдельная жизненная энергия и страсть в прекрасных горячечных глазах, захлебывающаяся речь, непреодолимое нетерпение и надежда, алчущая надежда на новую и скорую радость.
Взгляд по-девичьи красивого Лишо привораживал и неприятно охлаждал, что ли… Блестящие кофейные глаза его, потускневшие, снова налились печалью, он смотрел на меня неотрывно и молчал. Прощальное что-то было в этом взгляде и темное, раньше такой магический взгляд назвали бы вещим.
А провожали — все!
Тинка, счастливо щебеча, ехала на Лешином велосипеде. Ромка брякал на балалайке, Михай подпевал и подпрыгивал, сорвавшись пару раз вприсядку. Талантливый Лишо ухитрялся идти задом наперед, чтобы Леше было видно, как хорошо и ловко играет он для гостей и нового друга на тальянке своей нарядной. Частушечник брел в сторонке, тупо глядя перед собой.
На опушке, перед асфальтовой дорогой все разом замолкли и остановились.
Милицейская мигалка, притормозив, медленно проехала мимо. Дети провожали ее настороженными взглядами.
Лишо и Леша стояли рядом, держась за руки. С плеча цыганенка, растянувшись, свисала гармошка, доставая кнопочками траву.
Я оглянулся на табор.
Моя Наташа стояла у костра. Кажется, легкий светлый дым обвивал ее. Улыбающаяся, она подняла руку и медленно помахала мне цветастым платком, какая молодец!
На другой день, едва я вернулся с работы, Леша показал мне пеструю груду игрушек.
— Смотри сколько! Поехали скорее уже. А вот этот автоматик с батарейками я Лишо подарю, он обещал мне самокат, папа, он у него почти как вездеход. Мо-ощный!
— Да уж, настоящий внедорожник. Только где же ты тут будешь ездить на нем? И разве автомат не жалко?
Я дивился его невероятной щедрости. Сын, как и все дети, вовсе не был склонен расставаться даже с самыми бросовыми игрушками.
Вообще порядочный копун, на этот раз Леша оделся моментально. И вскоре уже волок свой рогатый велосипедик с балкона в прихожую. А его красный рюкзачок доверху был набит игрушками.
— Поели бы сначала, — сказала наша мама. — Вот бродяжки несчастные, и чего вы нашли у этих чумазиков? Бог знает что, антисанитария немыслимая. Оденьтесь потеплее, вон какой ветер.
— Ага тебе! — возражал сын. — Никакие они не чумазики, у них весело, там костры во такие, и я покушаю ихний суп, ты такой не умеешь да, папа? Забыл как называется.
— Паприкаш, — подсказал я. — Помидоры, картошка, перец, мяса невпроворот.
— Какой паприкаш? — удивилась мама. — Что за месиво? Гадость какая-нибудь, все немытое? И что же, все из одной кастрюли? Какой ужас, отец, ты о чем думаешь, я категорически запрещаю этот ваш паприкаш! — всплеснула она руками. — Нате-ка с собой котлеток, еще теплые.
За окном быстро темнело.
Вершины парковых деревьев мотались от порывистого ветра. Первые капли дождя косо и беспорядочно размазывались по стеклам.
Форточка хлопнула, чуть не оставшись без стекла.
Я вышел на балкон. Сизая шевелящаяся туча темнела над загородной рекой, и края ей не было видно.
Леша, уже в синей вязаной шапочке и трогательно маленьких кедах, не сняв свой рюкзак, сидел на краешке стульчика и плакал на плече у мамы. Она опустилась на корточки перед ним, гладила по плечу, спине, утешала и уговаривала, пугая ангиной, температурой и кашлем.