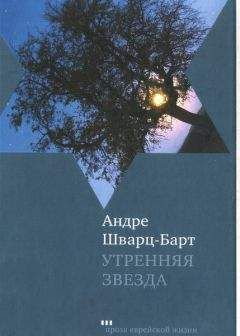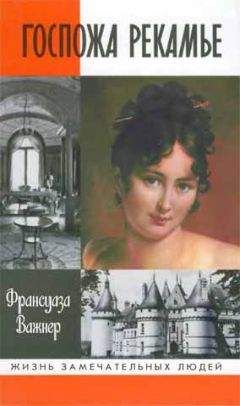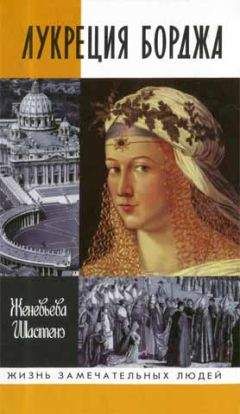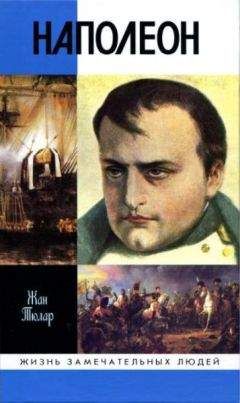— Хочу летать, хочу есть, хочу быть немцем!
Соседи тотчас спеленали его, чтобы не бузил. Юный нищий отвел Хаима с братьями в левый ряд, где находилось большинство «зеленых листочков», и по его просьбе им выделили общий тюфяк. Братья уселись, прижавшись к Хаиму и упершись спинами в стену, словно желая поглубже влипнуть в камень. Вокруг тюфяка с новенькими тотчас собралось несколько любопытных, и Хаим нервно прижал к груди торбу с остатками хлеба, на которую были устремлены все взгляды. Ему показалось, что он перехватил заговорщицкие перемигивания между их юным приятелем и одним из самых старших в этой комнате, крайне тощим, но вполне «зеленым» парнем лет как минимум четырнадцати. Взгляд маленького нищего был устремлен на четверку вновь прибывших с печальным смирением. И тут все, кто был в дортуаре, бросились на торбу. Хаим с братьями вынырнул из кучи сражавшихся за добычу, все четверо добрались до выхода из дортуара и очутились наконец в вечном сумраке улицы Вольской.
4
Они обливались потом, тесно прижимаясь друг к дружке, будто хотели сплотиться воедино, чтобы стать устойчивее, не упасть, продвигаясь вперед по бредовым улицам гетто. Все, что они видели здесь, разворачивалось в чуждом мире, не имевшем с их прошлым ничего общего. Выстрелы, гремевшие то там, то здесь, тотчас вызывали непредсказуемые приливы и отливы толпы, между отдельными очередями воцарялось спокойствие, а по улицам не переставали сновать куда-то спешащие грузовики.
Пальба не прекратилась с приходом ночи. Они снова нашли убежище под аркой дома на улице Сенна. Съели несколько кусков сахара и круг сыра, которые Хаим предусмотрительно опустил не в торбу, а в мешочек для молельных принадлежностей. Запах мочи из сиротского дома рассеивался с трудом. Дети были так измучены, что вскоре уснули. И тут Хаим вспомнил, что это вечер шабата, он принялся напевать первые строчки «Приглашения»:
Леха, доди! Леха, доди!
Леха, доди, ликрат кала;
пней шабат некабла.
Выйди, друг мой,
навстречу невесте;
вместе с тобою
мы встретим субботу.
Первые слова еще вылетали из его рта, но скоро песнь застряла у него горле, потом отхлынула обратно в голову, а вот уже и там, под черепом, не осталось ничего — ни слов, ни мелодии, только заполошная ночь в гетто. Он попробовал начать все сначала, но звуки опять утекли внутрь головы, забились там где-то у темени, и Хаим вдруг обнаружил, что все это только сон: грузовики, ущелье, пан Павячек, приход в гетто и прочее. Действительно наступил день шабата, но настоящего: вокруг семейного стола в Подгорце, как в счастливые дни, — с простыней и серебряной стопкой, той знаменитой, что унаследована от самого Хаима бен Яакова, а его старый слоноподобный родитель, тряся гривой неухоженных волос, радостно восклицал, возвышаясь всей своей священной жирной тушей над миром остальных людей:
Леха, доди! Леха, доди!
Леха, доди, ликрат кала!
В этот миг легкий шум пробудил Хаима от его второго сна — грезы о Подгорце, проскользнувшей в видения последней поры, — он увидел смутный силуэт неизвестного еврея, который нагнулся, что-то положил у ног детей и растворился во мраке. Это были две горбухи белого хлеба, в темноте они неясно поблескивали коркой, словно пропуская наружу заключенный в них свет. Хлеб казался теплым, только что из печи. Хаим поднес краюху к ноздрям, вдохнул сладостный и не вполне знакомый запах: так пахнул когда-то довоенный хлеб, а еще это отдавало мечтой из того сна, о котором говорил маленький нищий, утверждавший, что по гетто ходит пророк Илия. Выпустив из рук бесценный дар, он тотчас вскочил, бросился бегом к выходу из арки, какое-то мгновение еще провожал взглядом уже знакомый силуэт, узкоплечий, сутулый, волочащий ноги, то есть похожий на большинство евреев гетто всем, за исключением малости: при ходьбе его на каждом шагу заносило чуть влево. Но тут неизвестный канул в ночь без следа.
…а то, что он не убил меня в самой утробе — так, чтобы мать моя была мне гробом и чрево ее оставалось вечно беременным.
Книга пророка Иеремии, 20,17
1
Хлеб пророка Илии помог им целыми и невредимыми пережить зиму. Никто не отрицал святости его происхождения. Корка походила одновременно на ту, что у обыкновенного хлеба из деревенской печи, и на золотистую пленку, что подчас лежит, как солнечный отблеск, на необыкновенно удачно выпеченном пироге. Что до ломтя, хотя и сохранявшего видимость и вкус куска хлеба из пшеничной муки, в нем ощущалось присутствие взбитых с сахаром яичных белков, что тотчас давало понять: перед вами ломоть божественного происхождения. Хлеб пророка Илии излечивал почти все известные заболевания. Это оказалось тем более драгоценным свойством, что в больницах гетто не водилось никаких лекарств, кроме аспирина да йодной настойки, и только богатые семейства могли позволить себе высшую медицинскую роскошь — капсулы с цианистым калием. Поговаривали, что три кусочка хлеба пророка, откушенные от ломтя в одни сутки — утром, днем и вечером, самым победным образом одолевают скарлатину. Кожные нарывы проходили, а отмороженные пальцы на детских ногах отрастали снова. Но главным достоинством хлеба пророка оставались отнюдь не его медицинские свойства. Самым захватывающим в чуде было не исцеление, как считалось встарь, в эпоху цадиков, наделенных даром лечить недуги, но прежде всего — напоминание, что Бог печется о смертных, а на это многие уже перестали надеяться. Большинство не прикасалось к хлебу, довольствуясь возможностью его время от времени лизнуть; женщины носили его под рубашкой, мужчины подвешивали у чресл, кладя в маленький полотняный мешочек, предусмотренный покроем традиционного белого льняного жилета, где обычно держали филактерии.
В обмен на кусок этого хлеба величиной с кулак консьерж дома номер 19 на улице Лезно позволил им расположиться в треугольной пристройке под лестницей, где ранее он оставлял то, что требовалось для уборки здания. Объем этого шкафа был не намного больше четырех детских тел, плотно прижавшихся друг к дружке. В нормальные дни они оставляли приоткрытой маленькую треугольную дверцу, но, когда наступал великий холод, ее притягивали бечевкой, тогда к исходу ночи дети начинали задыхаться. Выползали наружу совершенно посиневшие, но этот цвет лица позволял надеяться, что краски жизни еще вернутся, а вот синюшность замерзших тел была бы уже необратима.
Безумие, царившее вокруг, достигло поистине неземных степеней. Небо нависло низко, его неопределенно мутный цвет превращал день в подобие вечных сумерек, отчего разница между сном и бдением почти сходила на нет. Хаим попытался выходить на улицы и там играть на флейте. Но в голове было пусто, пальцы стыли, и горькие, едва живые звуки музыки уже не содержали в себе ничего такого, что привлекло бы внимание прохожих. Тогда он принялся просить милостыню, беря с собою младших братьев, чьи жалобы вроде бы иногда трогали отзывчивую струнку в некоторых еврейских сердцах. У них еще были талоны на питание, один раз в день их кормили в народной столовой Комитета взаимопомощи. С утра до вечера приходилось быть начеку: научиться избегать камней, падающих с неба, и дубинок еврейской полиции, наскоков вопящих поляков, украинцев и латышей, немецких грузовиков, внезапно сворачивавших прямо в толпу, и взбесившихся ног взрослых людей, способных в паническом бегстве раздавить ребенка.
Наступила пора его бар мицвы, и Хаим решил, что она пройдет в точности так, как в Подгорце, а не как здесь в гетто, где состоятельные евреи давали своим детям уроки музыки, оставляя умирать сирот с Крохмальной улицы. Однажды ночью в своем треугольном закуте он обрядился в самые лучшие одежды, надел и праздничные ботинки, специально для него изготовленные отцом: одновременно нежные, словно человеческая кожа, и крепкие, как кость, да к тому же мелодично поскрипывавшие при каждом шаге. Затем он направился в старую деревянную синагогу, торжественно поднялся по ступеням, ведущим на алмемор. С этого возвышения он впервые смог обозреть все собрание присутствующих и произнести с нужной интонацией и подобающим видом те слова, которые перед Богом и людьми делают еврея евреем. Ему все хлопали, даже в том закрытом бархатной завесой отсеке, где стояли женщины. Но в этот момент кто-то, рыдая, спустился по лестнице, и стук ступенек под его ногами звучно отдался в треугольном закуте, жадно ловившем все ночные шумы. Затем над Варшавой опять воцарилась тишина, а в Подгорце возобновились рукоплескания, но они слышались уже не так отчетливо, возникли помехи — скрип треугольной дверцы их чулана, дыхание домов гетто, воспоминания о красной кирпичной стене и бесконечных пространствах, отделяющих Хаима от тел, укрытых землей в могильном рву. Вскоре он заснул. Назавтра рукоплескания возобновились во всей первоначальной свежести. Но у него уже появились сомнения по поводу этой церемонии, он почувствовал, что было бы лучше, если бы его отец присутствовал на ней во плоти. Однако сон — чудо из разряда пророческих, так говорили люди в Подгорце. Стало быть, видение, явленное ему, его бар мицва могла быть чем-то подлинным, взаправду имевшим место? Но если это лишь самый обычный сон, можно ли считать, что церемония состоялась? Если нет, если его бар мицва пред ликом Создателя недействительна, что теперь станется с ним? Ведь тогда получается, что он потерял право быть ребенком, так и не сделавшись взрослым? Не придется ли ему отныне считать себя лишь тенью человека?