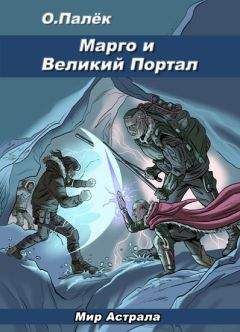И это был не первый такой указатель, не первая разноликая статуя. Иначе не смог бы найти.
— Знаешь, что я открыла? — спросила она тогда на песчаной косе.
— Что?
— Творчество делает меня живой. Помогает сохранить себя, свою суть. Когда леплю, память возвращается, как и во сне. Творчество заменило всё, что у меня отняли. Сны — бессмертие, вечное возвращение, поэтому здесь мы их и не видим. Нас очищают, растворяют друг в друге. Но стать другим — значит умереть. Люди создают что-либо, чтобы быть собой. Мои статуи — слепок жизни, кем была и кем хочу оставаться несмотря ни на что. Не буду творить по чужой указке, только то, что хотела бы видеть сама.
Слушал её и чувствовал освобождение от звука отбойного молотка. Улицы, площади и кварталы в городе росли как грибы. С утра до ночи долбил брусчатку площадей, готовил место под новый фонтан. Жуткий оглушающий грохот жил у меня в голове, дробил мозг на осколки стекла и камня. Прислушался ещё раз: ничего, тихий плеск волн.
— Ты видела корабли? Они забирают в новую жизнь?
— Да. Проплывают мимо, довольно близко.
— Их много?
— Иногда да, иногда нет. Сегодня на земле родится много младенцев, перед твоим приходом был лайнер, а позавчера за всю ночь приплыла одна яхта.
— Странно. В двадцать первом веке людей на планете было больше, чем всех, кто жили до них в прежние столетия, вместе взятых. И каждую ночь появляются на свет тысячи.
— Лабиринт — огромен. Думаю, наш город с его гаванью здесь не единственный.
— Сколько же нам здесь гнить?
— Ты так ничего и не понял, — вздохнула Маугли, — корабли перевозят трупы. В гавань пускают потерявших себя. Если душа не помнит, кем была в прошлой жизни, выходит, и не жила. Ты родишься заново. Другим. Тебе повезёт, если сны вернутся, но если нет… Зачем? Плавучая опера Джона Барта[59]. Наблюдаешь с берега за актёрами на сцене баржи, пытаешься угадать сюжет, потом плюёшь на это бессмысленное занятие и начинаешь читать программку. Никто не позволит досмотреть представление до конца, не покажет сначала. Можно ждать возвращения корабля: сцены будут повторяться. Те, что хочешь забыть, а не вспомнить.
— А если не из гавани, а отсюда? Доплыть, догнать, спрятаться в трюме?
— Попробуй, — усмехнулась она. — Ты вовремя. Скоро придёт лайнер.
— Откуда ты знаешь?
— Предвижу.
В ту ночь я тоже предал тебя. Бросил. И не потому, что так было бы лучше тебе, как в Альпах, а потому что спасался сам.
Громадный лайнер-призрак шёл в гавань, к берегу плоских домов. Пустой, на палубах никого, яркие огни, быстрый ход. Я прыгнул в воду и поплыл. Но догонять лайнер было всё равно, что плыть за горизонт: чем ближе подплываешь, тем дальше отодвигается. Вода проникала в уши, рот, нос, сквозь поры кожи и оседала внутри, как ртуть. Тело тяжелело, движения давались с трудом, сил оставалось всё меньше. Замер на секунду — и потянуло ко дну. Темнота сомкнулась над головой. Всё, финиш. Конец фильма. Включите свет, отстегните ремни безопасности.
Подобрал меня городской патрульный, выловил из канала. Спросил, почему упал в воду. Был пьян, не помню, ответил я. Ненавистное место, где не снятся сны, где стираются лица, мысли и чувства. Безысходный город. Духи выли и носились над водой. Чайки молчали. Патрульный повёз меня на лодке в наш звёздный квартал, в наш новый дом посреди воды — высоко над морем. Почувствуй покой. Познай ожидание. Вдохни неразбавленного джина для храбрости. Повтори свой заплыв. Очнись в канале, выползи на мостовую, обсохни и шагай строить фонтаны. День Сурка[60] не кончается.
В баре играют блюз. Нестройно. Аморген морщится и прижимает пальцы к ушам. Звуки его флейты совершенны, как мелодия ветра. Духи поют, когда играет на мостах.
— Тибетские монахи и египетские жрецы умели хранить память всех рождений, переносить из жизни в жизнь, — рассказывает нам. — Их знаниями обладают Сыны Змея и Братство Псов. Наследники древних учений Востока и Запада. Жизнь — средство достижения высшей точки полёта души — смерти. Бессмертие и есть память, сумма всех точек на плоскости мира, возможность ощутить себя в любой из них. А простым смертным, кто неспособен ходить по воде, предоставят общественный транспорт в гаванях и портах.
— Ходить по воде?
— Да, Кира. Вода в твоём уцелевшем сне о мосте через море — символ времени. Найдите мост, и город отпустит вас живыми — теми, чью память восстановят земные сны. Всех троих.
— А ты?
— Мне не вернуться ни с вами, ни на корабле. Я был последним рождённым. Наши души стареют, изнашиваются и умирают, как и тела. Наступает время вернуть позаимствованную энергию источнику.
— Зачем же пошёл за нами?
— Никогда не сопровождал Маугли в лабиринтах сна. Наблюдал со стороны, как трусливая психофора. И она как-то в шутку сказала, что верит лишь мифу об Орфее и Эвридике. Псы бы вас не отпустили, не оставили на земле. Я пошёл за вами. Но ни о чём не жалею, никто не слушал мои песни так, как их слушают духи. Здешние духи любят во мне поэта.
Аморген потёр флейту в руках и положил на стол. Музыканты на сцене почтительно замолчали. Но он не стал играть.
— Так вы поможете мне вытащить Маугли или нет? — спросил нас снова.
Небо струится молочной белизной сквозь маленькое оконце под потолком. Солнца не видела много дней. Или лет? Темнота сменяется тусклым светом. Тишина остаётся неизменной. Запахов тоже нет. Трудно определить время без мерного хода стрелок. Не выцарапывать же полоски на стене башни. То, что я — в башне, поняла сразу. По ночам она качается из стороны в сторону от ветра, как корабль или дерево. Стены дрожат под рукой, как взмыленные кони. И не долетают городские звуки. Ощущение высоты на верхушке тонкого шпиля. Не помню точно, когда меня сюда привели. Помню, как солнце било в глаза на площади, а потом — тёмные коридоры, винтовые лестницы, и чьи-то сильные руки тащили вперёд и вверх. Хочется услышать тиканье часов: тик-так, тик-так, тик-так. Быстрее, быстрее, быстрее. Но минуты здесь растягиваются на месяцы, а пространство искривляется. Не земля, где стареют раньше на последних этажах. И всё-таки чувствую, где север. Могу с закрытыми глазами указать на Полярную звезду, потому что родилась на севере. Важно знать, где дом, даже если его нет на картах, а меня давно нет на земле.
В тюрьме человек должен бы вспоминать свои дни и жизни, победы и поражения, любовь, ошибки, обиды, грехи. Каяться и прощать. Раскладывать своё время по полочкам: достиг, обрёл, познал, не успел, потерял. Или хотя бы жалеть себя и мечтать о ком-то далёком. А я хочу кофе. Тот, что продавали на станциях поездов в пластиковых стаканчиках. Усталость измученной кофе-машины, бодрящий пар нетерпения, билет в новую жизнь, азарт, страх и радость, печаль расставания — море эмоций внутри маленькой согревающей руки ёмкости. Обжечь губы и горло первым жадным глотком, добавить немного сливок и подождать, пока чуть остынет, чтобы пить медленно, длить горько-сладкое и густое его послевкусие. Наваждение какое-то! Однажды выпила аж пять чашек кофе на платформе Сен-Дени, когда села не в тот поезд и ждала обратный[61]. У вокзального кофе вместо вкуса предвкушение. Дома пьёшь кофе, мысленно планируя предстоящий день. Жизнь похожа на поезд — предрешённый маршрут из точки А в точку Б. Отстал от него — и не знаешь, что будет дальше. Цель видна в пути. Остановка же — раздвоение личности во времени и пространстве, как на вокзале: ты ещё не там, но уже не здесь. Сидишь на перронной скамейке, и само ожидание отрицает бег времени. От мысли «Что если станция — проходная, и поезда жду напрасно?» холодеет позвоночник. Может, настоящая жизнь и есть приключение, дорога без карты? Выпадение из реальности? А жить — значит просто быть где-то, когда-то, не задумываясь о том, как живёшь? Когда всё, что окружает снаружи, важнее того, что сберегла внутри? Когда отстаёшь от жизни, но обретаешь себя?
Я побывала во многих городах, заглядывала в другие времена и эпохи, смотрела чужие сны. В моей голове хранятся сюжеты судеб, по которым впору снимать кино. Но сейчас болтаюсь на вершине пустоты и отчаяния, а воспоминания — мелкие, как глотки кофе. Не вспоминаю ни Арно, ни Киру и Ульвига, ни мои статуи на песке — наверняка их разрушит ветер. Кажется, не было ничего, никого, никогда. Судорожные глотки из пластикового стаканчика.
В конце апреля — начале мая, зимы на Белом море по-разному суровы, трещал и вставал на дыбы лёд. Держалась у кромки из последних сил, сгибаясь от пронзительного ветра, ждала, пока вода не вырвется сквозь трещины тёмными языками, не сбросит старую кожу. Чувствовала в такт, словно ещё немного и сердце лопнет от напряжения, и сама растекусь волнами. А в середине лета днями бродила по улицам, где каждый год умирали дома, и время цепенело в солнечных полосках меж ними. Люди побежали из города задолго до того, как его стёрли с карт. В одном заброшенном подъезде во всю стену кто-то нарисовал стаю фламинго у озера. Помню их горбатые клювы и ярко-розовые перья, но не глаза ангела с картины. Меня преследуют запахи: кавказских яблонь в цвету от побережья и до подножий гор — сотни километров белого приторного благоухания, талого снега в горах, влажной пыли пражской брусчатки перед грозой. И первого полёта на самолёте! Острая, специфическая смесь герметика, авиарезины, пластиковых покрытий и керосина. «Чем тут пахнет?» — спросил мальчишка отца. «Опасностью», — ответил тот. У меня появилась привычка не переодеваться после приземления до утра: старый мохнатый свитер впитывал небо, и я могла дышать им, носить с собой. Дожди обновляли его аромат. Шерсть намокала и снова пахла самолётом. Ночью заходила погреться в кафе с высокими окнами, где подавали малиновый ром. Пила, а потом доставала ягоды со дна бокала коктейльной трубочкой и ела. Свежую садовую малину с вязким привкусом рома. Как-то раз в кафе залетел светлячок и долго мигал в полумраке под потолком. Почему вспоминаются такие мгновения? Красивые, но незначительные. Вспыхивающие светлячками в темноте, звёздами на дне колодца. Башня — колодец наоборот. Хочется выйти на свежий воздух! Услышать чей-нибудь голос! Кричать во всё горло: