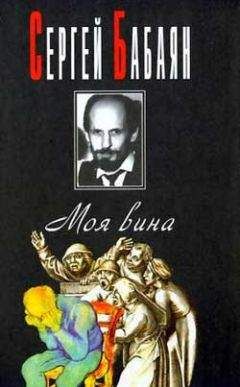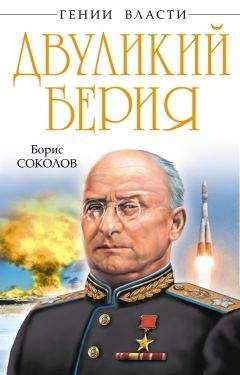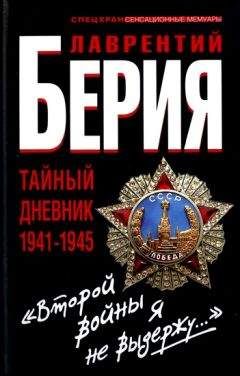С тяжелым сердцем я поднялся на свой этаж. В коридоре меня встретила мать невесты – вышла из комнаты, наверное, на щелчок дверного замка. Неприятно было ловить ее расходящийся, ускользающий взгляд, тем более неприятно после всего, что уже произошло и что происходило сейчас… вдруг на меня навалилась'такая – питаемая всем, что я видел и слышал вокруг, – тоска, что из груди моей вырвался стон – я с трудом подавил его, стиснув зубы и заиграв желваками… Мать невесты посмотрела на меня одним глазом (второй смотрел в сторону) и сказала равнодушно-устало:
– Перепились, сволочи.
Ее тон меня поразил… как будто за окном собрались подростки – побренчать на гитаре! И вдруг я все понял… Ведь она же не знает, что Тузов хочет уйти. Она может вообще ничего не знать – о свидетеле, об аборте, о том, что все это открылось вдруг Тузову… конечно, едва ли, но главное не это. Главное – она не знает, что Тузов собрался уехать домой. Она уверена (а как иначе?), что молодые через пару часов лягут спать, толпа под окном погалдит, покуражится и разойдется, завтра все протрезвеют, посубботнему опохмелятся и будут со смешками, по-доброму вспоминать, как хорошо – и не без драки – погуляли вчера на свадьбе… Потому-то и говорила она – равнодушно-устало. Но я-то знал, что все обстоит не так.
– Послушайте, – сказал я скороговоркой (потому что намертво забыл ее имя и отчество), – у вас за столом не меньше десятка здоровых мужиков. Подите к ним, скажите, пусть помогут! Пусть выйдут, поговорят… эти внизу уже не на шутку расходятся. Там, кстати, больше половины чужих, которых на свадьбе не было. Они вам весь дом разнесут.
Мать невесты махнула рукой.
– Дом каменный…
Я сам чувствовал неубедительность и даже бессмысленность своей просьбы – если следовать в русле смоделированных мною тещиных рассуждений. Тузов дома и никуда не пойдет; пускай стоят – кому они мешают?… Скрепя сердце, я наступил на свое самолюбие.
– Нам тоже надо скоро идти («почему – тоже?!» – запоздало промелькнуло в мозгу). Они и на нас смотрят косо.
– Да мы вас проводим, не боитесь! – воскликнула мать невесты. – Я скажу мужикам.
Я со стоном вздохнул.
– Ну, не знаю… Я бы на вашем месте унял их сейчас. По-моему, они собираются снова ломиться в дверь.
– Я им поломлюсь, – сказала мать невесты неожиданно зло – и в душе моей затрепетала надежда. – Ладно… Пойду позову Витьку и Степана.
Она повернулась и неторопливо пошла в гостиную. В открывшуюся дверь я увидел Зою и Лику: они сидели ко мне спиной, даже друг с другом не разговаривая; Зоя курила, Лика беспокойно постукивала тонкими пальцами по столу… Я заглянул в ванную комнату: Славик и Тузов прервали разговор, посмотрев на меня: Тузов казалось отвердел, даже взгляд стал тяжелым – правда, стоявшая в ванной бутылка опустела наполовину…
– Ну, что? – спросил Славик.
– Пока ничего, – сказал я. – Где стакан? Я выпил осьмушку, не более.
– Я скоро приду.
Я вышел и столкнулся с матерью невесты, Витькою и Степаном. Витькой оказался носатый, Степаном – бугристоголовый; оба были если не вдребезги, то близко к этому пьяны: носатый посмотрел на меня с бездонным недоумением – очевидно, не понимая, кто я такой… Мать невесты проводила их до дверей; я вышел следом; мать невесты сказала:
– Вправьте им там мозги.
– By сделано! – нутряным голосом заверил носатый и ушел в темноту.
Я поднялся площадкою выше, открыл окно. Тайная надежда, что толпа разошлась, с первым же брошенным взглядом исчезла: парни и девки стояли на прежних местах, видимо, не скучали (по кругу ходил стакан) и в ближайшее время не собирались скучать: на опустевшей скамье (Афоня уполз) поблескивала батарея золотистоголовых бутылок. Я заметил, что в нескольких окнах напротив торчат любопытные головы. «Вот так же будут смотреть и молчать, когда нас будут бить», – тяжко подумал я…
Хлопнула дверь подъезда. Из-под козырька вышли носатый и бугристоголовый – на его лысине серпом изгибался электрический блик.
– Ну, молодежь-холостежь, – прогудел носатый, нетвердо подходя к чуть расступившемуся кругу, – как жизнь молодая?
– И жить хорошо, и жизнь хороша, – ответил зубастый свидетель (я вдруг вспомнил – по какой-то очень туманной ассоциации – слова одного английского журналиста о Д*: это печальный пример того, чем угрожает Англии чрезмерное образование низших классов…). – Что, дядя Вить, подышать свежим воздухом вышли?
Я совершенно растерялся… даже державшая сигарету рука опустилась: и от этого домашнего, добродушного молодежь-холостежь, как будто обращенного к детям своих старых друзей (я-то надеялся, что несколько часов подряд кипевший буйной, самоуверенной энергиею носатый – при пусть молчаливой поддержке основательного, кряжистого, налитого тяжелой мужицкой силой бугристоголового – с ходу, привычно рыкнет на полупьяную толпу (сравнительно с ним – малолеток) и – хотя бы опираясь на хрестоматийно (как в жизни – я не знал) почитаемое на селе старшинство, тем более по-соседски знакомого человека – в считанные минуты разгонит ее по домам); растерялся, говорю я, и от звука безмятежно обыденного, безо всяких… не то что злобы, но и малейших признаков волнения, раздражения – голоса отвечавшего дяде Вите свидетеля, – как будто он и его толпа стояли не в ожидании свершения нечеловеческого, черного дела, а просто вышли покурить, подышать, разнообразить монотонное застольное действо, непринужденно строив под кустом, – чтоб через четверть часа, ободрившись вечерней прохладой, вернуться обратно, – как будто никто и не собирался избивать одинокого, затравленного, наглухо обложенного в чужих, незнакомых ему местах, как заблудившийся в городе волк (хотя Тузов был так мало похож на волка…), к тому же уже избитого человека, – как будто вообще человека этого не было… а главное (и вот здесь растерянность моя превратилась в обессиливающий, сосущий под ложечкой страх – обессиливающий потому, что это уже был страх не перед людьми, а перед нелюдъю), – а главное, как будто Тузов и мы в представлении свидетеля были букашками, которых можно и должно было раздавить, но из-за которых (пока они сами не выползли под сапог на обочину) не стоило не только волноваться, сердиться, вообще утруждать себя каким-либо душевным движением – но и даже о них вспоминать… Все это услышал я в ответе свидетеля.
Носатый чиркнул спичкой – раздражающе громко в ночной тишине – и прикурил. Бугристоголовый стоял рядом, руки в карманах.
– Мотоцикл-то на ходу, дядя Степан? – спросил ктото из круга.
– Побегает еще, – сказал бугристоголовый.
– А то тут Валерка свою «Яву» на запчасти продает. Вам вроде передняя вилка была нужна?
– Мне Игнат уже заварил.
Помолчали.
– Ну, так чего? – сказал – видимо, вспомнив – носатый, погашая спичку нетвердым взмахом руки: карликовой кометой высветилась оранжевая дуга. – Чего развоевались-то?
– Кто развоевался?
– Да Маша говорит, чего-то с зятем не поделили. Кто-то хмыкнул. Щекастый.
– Если бы я, дядя Вить, с ним чего-то не поделил, его бы уже на свете не было.
– Да ладно тебе, Колька! Ты чего? Давно ли от хозяина откинулся?
– Нехорошо, ребята, – вступил бугристоголовый. – Свадьба, а вы на жениха.
– Это, дядя Степан, наше дело, – вдруг сухо сказал свидетель.
– Нельзя, нельзя так, – увещевающе сказал бугристоголовый. – Дело молодое, понятно… Ну, погорячился парень – бить-то зачем?
– Бить его никто и не собирается, – пьяно сказал щекастый. Он стоял рядом с девицей в короткой юбке (в полусвете казалось – без юбки) и тискал ее за плечо. – Калечить не будем, а поучить надо.
– Ну, поучить… – нетвердо сказал бугристоголовый.
– Вы смотрите там, – буркнул носатый.
– Отдыхай, дядя Вить, – добродушно сказал свидетель.
Тощий высокий парень со светлыми волосами до плеч вышел из круга и взял со скамейки бутылку.
– Ну что, мужики, примете по сто грамм?
– Это можно, – сказал носатый.
Тускло звякнуло стекло о стекло, отрывисто булькнуло – наверное, секундно перевернули над стаканом бутылку. Носатый выпил и захрустел чем-то невидимым. За ним налили бугристоголовому. Я посмотрел на часы, подсветив сигаретой. Четверть одиннадцатого. Вне освещенного круга было черно, как в ночном лесу: многие окна уже погасли – видимо, по еще не изжитой деревенской привычке здесь рано ложились спать. Во мне вдруг опять поднялось раздражение против Тузова. Долго искал жену, идиот… Сволочь, а не идиот! Самовлюбленный, инфантильный, истекающий похотью тип, думающий только о своем удовольствии. На стариков родителей, отдавших ему всю жизнь, – наплевать! Наплевать, что мать из-за этой женитьбы превратилась в старуху, что отца, в его возрасте, может в любую минуту хватить инфаркт, – хочу проститутку, и все! хочу с ней спать, а вы хоть подохните! А если чем не угодит – об аборте, видите ли, не предупредила, – хочу в морду ей дать! Да хоть бы она каждый месяц аборты делала: кто тебе дал право руку на нее поднимать? А я хочу! Ах, хочешь – ну так получи… любишь кататься, люби и саночки возить. На друзей и их девушек, ногтя которых не стоят все эти шлюхи во главе со шлюхой женой, – тоже плевать! Не хочу оставаться здесь ночевать, спасайте меня! сломают вам челюсть, пробьют голову – наплевать! главное – я! С-скотина… В таком настроении, не дожидаясь окончания (ясно было, что бесполезной) миссии мужиков, – я раздавил сигарету, закрыл окно и вернулся в квартиру. Дверь была заперта, и я позвонил. Открыла мне мать невесты.