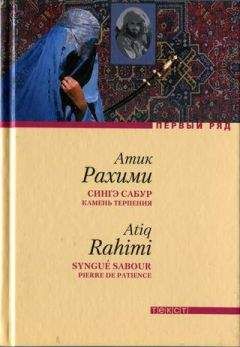— Вставай, сынок, не спи.
Тарантул запутался в рукавах, освобождая окоченевшие руки. Встал, наконец, на колени и с третьей попытки, хватаясь то за лавку, то за подол старухи поднялся на ноги и еле-еле вошел в подъезд — неуверенно, словно делал первые шаги в своей жизни. А может быть и действительно первые, но в новой?..
Реанимация проходила на лестничной площадке. Чугунный радиатор излучал тепло. Человек прислонился к нему, стараясь каждой клеткой озябшего организма ожить, воспрянуть и в полной мере восстановить нарушенное кровообращение. Он тряс всеми членами тела, хватался за стены, дрожал. Тысячи иголок буравили пальцы и рук, и ног.
— Спасибо, мать, — буркнул Тарантул.
Возвращение на этот свет начиналось неласково.
— Будь здоровым, сынок… Но почему ты раздетый, и кто ты?
— Зэк я, мама… Вчерашний… Злодей. Освободился недавно, работал вот у Мирзоева, а денег нет…
— За что сидел? — тихо спросила его она.
— Сто вторая, мама, — и глубоко вздохнул.
Старуха задумалась и ещё сильнее сгорбилась. При тусклом свете междуэтажной лампочки морщины на её лице показались Тарантулу ещё более глубокими, чем на монументе.
— Хорошо, что не за душегубство, — выдохнула она наконец.
— За душегубство, — отчаянно выкрикнул он.
— Ты убил, сынок? Но кого?
— Жену, мама.
— Тяжкий грех! — запричитала она, — горько тебе, ох как горько…
— Горько, мама, необратимо, — вторил ей шестидесятилетний детина. Он ожил окончательно. Силы понемногу возвращались к Тарантулу, но минута за минутой слабела женщина, поднявшая его с земли. Она всё ещё не решалась уйти и оставить его одного на лестничном марше.
— Вот-вот упадет, — догадался Тарантул.
— Ты иди, мама, домой. Я погреюсь вот тут до утра и исчезну. Я не потревожу вас и ваших соседей… Я ничего не украду…
Он взял её под руку и проводил до дверей квартиры.
— Спасибо, сынок. Внук у меня сердитый, прибьёт, а то бы зашёл, переночевал. Целыми днями пьёт заразу — пенсию, вот, отобрал.
— Нет, мама, что ты… Ты и так меня отогрела, и с того света, почитай, достала. Второй раз народился. Отдыхай и не волнуйся — забудь.
* * *
К полуночи двинулось время. Одно за другим погасли окна в соседних домах — уснули люди. Эту ночь Тарантул решил пережить стоя. Навалившись на радиатор. К счастью, что не было запоздавших жильцов, и никто не прогнал его обратно на улицу. Кому не приходилось стоя спать, тот не поверит, что это возможно. Но и все же именно так я часто отдыхал в трамваях и в очередях, а также во время ночного дежурства на службе и на работе.
Рухнуло звёздное небо. Он опять ударился о твердь. О бетон. Задребезжали стёкла в оконном переплёте. Старая штукатурка вздрогнула и отслоилась. Из трещины, образовавшейся на стене высыпался песок. Искры мчались навстречу человеку из темноты, из бесконечности. Со стоном поднялся он на ноги и в этот раз, и снова упал. Бог любит троицу. Колени у него ныли и плохо гнулись. Послышался тихий скрип отворяемой двери и её мягкий хлопок: вдох и выдох. Только одна она в подъезде оставалась деревянной и не звонкой — тёплой, отзывчивой на человеческую боль. Из полутьмы возвратилась старуха-мать. Двумя руками держала она перед собою тяжёлый тулуп вековой давности.
— Возьми, сынок, погрейся. От покойного мужа остался, нашла вот в кладовке.
Не могла она уснуть этой ночью и долго перебирала забытые вещи. Раздетый человек в подъезде был похож на её покойного сына: такой же сутулый и мрачный, одинокий и неприкаянный. Израненный жизнью.
— Выкидывать было жалко, а я всё думала сгодиться на что, и вот…
Он утонул в бездонной одежде.
— Сколько лет ему, мама?
— Сколько живу — столько и лет.
— А сколько вам?
— Девяносто.
Этот тулуп пережил все катаклизмы двадцатого века. Местами его потревожила моль, прогнившие швы расползались, но всё же он был ещё крепок и толст. Внимательно осматривая кожу, увидел Тарантул плотные бурые пятна на боку, должно быть носивший этот тулуп очень долго лежал в крови или с пробитой головою убегал от налётчиков. Историческая одежда пахла табаком и каптёркой, а в кармане её нашёлся кисет времен великих строек. 1939 год — было вышито на нём. Тарантул его вывернул наизнанку, вытряхнул на ладонь табачную пыльцу и с огорчением крякнул:
— Курить хочу…
Женщина исчезла во тьме подъезда также молча, как и появилась. Мягко вздохнула квартирная дверь и никто из соседей не проснулся от этого тихого стона. Тонкое, тёплое облако пара растаяло вслед и гробовая тишина воцарилась в подлунном мире.
— Хорошая вещь — тулуп, особенно если им обернуться дважды…
Благодарный бродяга расслабился и уснул на полу, вытягивая до отказа вперёд гудящие ноги, разгружая суставы… И захрапел… Эти короткие минуты сна были сладкими для окоченевшего в ночи человека.
— Покушай, милый, — она вернулась к «новорожденному» сыну — сердобольная мать. Горячая картошка парила под скупым светом последней лампочки, освещающей лестничный марш. Чёрные сухари и мятый солёный огурец — весь её нехитрый завтрак, больше ничего не было. Шла приватизация России. Бродяга взял одну картофелину пальцами и обжёгся, он перебросил её несколько раз из одной ладони в другую, подул на неё и съел. Вот и стало ему тепло и уютно.
— Возьми, — протянула старуха бродяге литровую банку.
Пока она её держала, в полумраке показалось человеку, что это чай или на худой конец вода. Но, увидев и оценив её содержимое, он был поражен — в банке лежали окурки.
— Откуда это?..
— Сын собирал… Перед отъездом на север у нас долгое время не было денег. Он хранил окурки… На чёрный день откладывал их в эту банку, уехал вот… и не вернулся, — умер несчастный…
Теперь они знали друг о друге многое и молчали, сидя на лестничном марше. Тарантул курил и кашлял. Заглатывал мокроту и снова дербанил окурки… Где-то взорвался будильник. Потом второй, и спустя минуту ожил весь подъезд: загремела посуда; средства массовой информации наперебой заговорили о подъёме российской экономики… Настало утро…
— Внука будить мне надо, — прошамкала ему старуха, — прощай…
— Пойду я, мама, — он начал было снимать с себя тулуп, но старая женщина остановила его и перекрестила на дорогу:
— С богом, сердечный! Не замерзай…
Шняга семнадцатая
Парадокс
В жизни много парадоксов. Всеми правдами и неправдами строит всё сознательное человечество гаражи, чтобы упрятать в них свой автотранспорт от безлошадных и несознательных сограждан. Но время от времени злодеи отпирают засовы и угоняют машины.
— А в чем же тут парадокс? — проницательный читатель недоумевает и весело улыбается. — Нормальное явление! Сознательная борьба барыги и вора.
И поэтому, чтобы понять весь ужас нынешнего бытия, рассказывается следующая история, произошедшая в городе Новотроицке совсем недавно во время описываемых мною событий.
Мирзоев купил себе новый «Мерседес» после того как по пьяне у него угнали старый. Если кому-то покажется, что менять машины бизнесмену всё равно, что презервативы влюблённому, то этот скороспелый мыслитель глубоко ошибается. Предприниматель отнюдь не транжира, а напротив человек зарабатывающий деньги. Исчезновение автомобиля едва не свело в могилу его хозяина, две недели подряд он пил валидол, хватался за сердце и совсем не принимал в рот ничего спиртного. И до сих пор бы давился собственной желчью, если не праздники. Но таскать своё десятипудовое тело по площадям необъятного города стало действительно тяжёло и, скрипя сердцем, Мирзоев позволил себе дорогую покупку и попросил майора Вислоухова оказать ему маленькую услугу:
— Помоги застраховать, майор, не обижу.
— Надо обмыть машину, — согласился начальник, — пошли-ка, посмотрим…
И весело болтая о мировой политике в целом: о ценах за барель нефти на международной торговой бирже да о курсе рубля по отношению к американскому доллару, наши приятели на понощенном исполкомовском рыдване поспешили к бронированному гаражу самого авторитетного в городе предпринимателя.
— Вот напасть, — спохватился Мирзоев, — ключи-то я дома оставил. Возвратиться бы надо обратно и взять… А, майор?
— Не надо.
Вислоухов достал из багажника воровской инструмент — большую подборку различных ключей и отмычек, какую-то загадочную электронику и на глазах у изумленного Мирзоева двумя спицами отомкнул стальные засовы.
— Сим-сим, откройся!
— Вот тебе и на-а… — удивился хозяин, внимательно рассматривая замок, — не заел и даже не скрипнул? А я всякий раз минут по десять верчу ключами в скважине — очень боюсь их доломать — тяжко проворачиваются. Сварщики, они же собаки, до денег, что мухи на навоз, а у меня, веришь ли, ты майор, после этой самой покупки карманы дырявые насквозь.