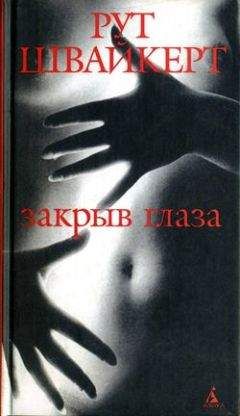«Но ведь за более-менее приличное вино мы платим столько же или даже больше», – сказал Филипп Фратер, который, едва вернувшись с работы домой, к Лоуне, тут же с подчеркнутой осторожностью прикрыл за собой дверь, вновь оставляя за нею всю тяжесть своих домашних забот, и отправился покупать овечье молоко, хлеб из муки грубого помола с отрубями и деревенские яйца, чтобы накормить обитателей своего дома. Проведя пятнадцать лет без гражданства, Али, палестинец, родившийся в Цефате, на израильской территории, недавно получил наконец швейцарский паспорт. При их скудных средствах им с большим трудом удавалось держать магазин. То, что посетители не протестовали, когда Али взвешивал им пармскую ветчину, сто граммов которой стоили девять франков, вместе с бумагой, заставляло его жить ежедневной надеждой, что таких покупателей у него будет много; сегодня, например, к нему пришла Алекс, она купила ветчину, чтобы отпраздновать свое тридцатилетие.
Как раз в тот момент, когда Рауль переступил порог квартиры, рейтинг информационной программы на национальном швейцарском телевидении достиг 28 процентов, Рауль и Алекс, стоя у окна, выходившего на Парадизштрассе, укрепили чуть позже право на свою плотскую любовь, подобно тому как десятки тысяч других граждан этого города, стерев пыль с лакированных столов, вклеивали в альбомы цветные фотографии их последнего отпуска и укрепляли тем самым право честно заработанной собственности. Алекс и Рауль, незаметно под одеждой соединившись друг с другом, вышли на балкон и стали смотреть на ночную улицу, на непроницаемые занавеси чужих спален; их возбуждала мысль о том, что посторонние люди, не подозревая об этом, видят их половой акт, на противоположной стороне улицы кто-то ждал автобуса, поглядывая на часы, было десять часов пятнадцать минут. Слова были не нужны, их тела говорили сами за себя; они зачали ребенка, который умер безымянным задолго до своего рождения.
Алекс в это время думала о путешествии по Америке, которое в качестве творческого эксперимента совершили вместе, но поначалу не зная друг друга, Софи Калле и Грег Стефард. Оба во время этой поездки из Нью-Йорка в Сан-Франциско на старом, полуразвалившемся автомобиле, сидя рядом, вели кинодневник, а позже из этой двойной, двойственной интерпретации одних и тех же событий сделали вместе своего рода документальный фильм. Софи Калле в течение всех четырнадцати дней каждое утро говорила в микрофон: «No sex last night», в то время как Грег Стефард ни разу не проронил об этом ни слова. Потом Софи Калле и Грег Стефард, наверное, для того чтобы наконец-то по-человечески покончить с этим животным взаимным наблюдением, 18 января 1992 года поженились в Лас-Вегасе на 604-й улице. Во время обряда они сидели в своем давно дышащем на ладан кадиллаке со спущенным верхом. Чиновница с неописуемой скоростью задавала им свои старые как мир вопросы из 24 hr drive up wedding window,[31] а Софи Калле и Грег Стефард протягивали свои потрескавшиеся руки к микрофону и оглушительно выкрикивали свое «Да!», перекрывая голосами штормовой ветер Невады, и голоса летели через открытое окошко для брачующихся под невидимые своды little white chapel.[32]
«О чем ты думаешь?» – спросил наконец Рауль: они сидели друг против друга и пили дорогое сладкое шампанское из местного магазина. «Я хочу выйти за тебя замуж – сказала Алекс, – прямо сейчас, немедленно». И Рауль достал из внутреннего кармана своего потертого пиджака маленькую коробочку. Одежда Рауля и Алекс выходила из строя быстро, оба обращались с вещами каждый на свой лад небрежно, в холодильниках у них увядали листья салата, пуговицы на рубашках Рауля отскакивали сразу, когда он надевал их в первый раз, Алекс раз десять возмущенно натыкалась на пятна от кофе, которые виднелись на полу в кухне, прежде чем пройтись по ним тряпкой, которую она давно держала в руках.
Выяснилось, что одна только мысль о том, что перед ним – его законное достояние: «Это – моя законная жена», полностью изменила этого самого Грега Стефарда: эти четыре слова автоматически возбудили в нем желание, автоматизм страсти он успешно применял все последующие недели, в результате они решили продолжать свое кинопутешествие и после свадьбы, ведя протокол съемок и регистрируя каждую ночь отдельно.
На ладони Алекс лежали мужские часы необычайной красоты, простой строгой формы.
«Им ровно столько же лет, сколько тебе, – сказал Рауль, – и по крайней мере столько же им еще предстоит прожить, если верить часовому мастеру, еще одну такую же жизнь, как ты прожила, а может быть, и дольше, чем продержится наш брак, хотя я и не могу его с тобой заключить. Когда мы с тобой встретимся в день тридцатилетия нашей дочери, ты уже давно будешь жить с другим мужчиной, где-нибудь в Штатах, например, со своим хмурым астрофизиком, и каждый раз, когда ты будешь смотреть на часы на твоем стареющем запястье, ты будешь хоть чуть-чуть вспоминать обо мне».
«Сентиментальный бред, – сказала Алекс, – и не навязывай мне, пожалуйста, твои собственные фантазии; в один прекрасный день ты встретишь где-нибудь в трамвае перешедшую в христианство еврейку из Азии и через три недели женишься на ней. А если у нас будет ребенок, то придется ему жить у тебя».
«С чего это? Как ты себе это представляешь? Ведь мне же надо работать».
«А я чем занимаюсь, как ты думаешь? Ты что, никогда не слышал о детских яслях?»
«А грудью его кто кормить будет?»
«Ничего страшного, для этого существует готовое детское питание», – сказала Алекс.
«Ты просто невыносима».
«Ты тоже. Боже мой, ведь я же люблю тебя, идиота, – сказала Алекс и повторила, сама не зная почему, ту фразу, которую она уже говорила утром: – У нас будет ребенок, но сначала мы одного потеряем».
«Не надо говорить мне таких страшных вещей, а то ведь ты напророчишь, – сказал Рауль. – Пойдем выпьем еще по бокалу шампанского».
«Возьми меня, – тихо попросила Алекс, – пожалуйста, так, чтобы я рассудок потеряла».
«Ну, я ведь не секс-машина», – сказал Рауль; они оба поднялись, и он, встав позади нее, расстегнул молнию на ее узком платье и медленно стянул его с нее через голову.
«Спокойной ночи», – сказал он позже, когда они уже лежали в постели, держась за руки.
«И тебе тоже спокойной ночи, – сказала Алекс, – и тебе тоже». И стала целовать его лицо, его мягкие губы. «Ты немножко похож на черепаху, и только одна-единственная из всех твоих пятидесяти пяти любовниц это заметила».
«А кто-нибудь из твоих пятидесяти шести любовников пел тебе когда-нибудь колыбельную песенку?» – спросил Рауль, и неслыханные звуки вдруг полились из его рта, проникая в маленькую головку Алекс, и она все росла, росла, поднимаясь до самого ясного, самого синего неба.
И когда они оба лежали в полудреме, зазвонил телефон: это была Ульрика, она звонила из Аугсбурга, автоответчик стал записывать ее сообщение: с сегодняшнего дня она замужем. Ее муж Деннис, с которым она знакома уже, наверное, недели три, вырос в австрийской деревне, отец у него был турок, но он его никогда не видел; он рисует грустные картины и живет в психосоматическом терапевтическом центре, где работает при кухне и почти никаких денег не зарабатывает. Ульрика сказала, что ей срочно нужно десять тысяч марок, не может ли Алекс одолжить ей эти деньги, чтобы она смогла в одном маленьком южнонемецком городишке открыть практику дыхательной терапии. Там она хочет поселиться с Деннисом; он любит индийскую музыку больше, чем самого себя…
Ребенку, который умер безымянным до своего рождения
ты не вошел ни в какую статистику; твое место единственно только
здесь и в памяти сердце бьющееся
8 мая на экране ультразвукового монитора
на полминуты лишенный покрова тайны
(Сразу после этого мы осматривали многоквартирный дом особо улучшенной планировки)
Пауль Клее нарисовал тебя в 1939 году: забывчивый ангел, и я записываю, когда ты родился: 30 мая 1996 года в городской больнице Цюрих-Тримли, в среду, в одиннадцать
часов утра, только это неточно, уже давно настал четверг. Жалюзи в родильной палате № 5 были наполовину приспущены, справа сияло небо, слева стояли весы для взвешивания новорожденных, которые гарантировали точность плюс-минус десять граммов.
Никто не положил ребенка на весы, никто не посмотрел на часы.
Я сделала это тайком, ну разве не смешно, ведь это время рождения не годится ни для какого гороскопа, который простер бы перед нами всю перспективу судьбы и характера: просто какие-то там полфунта мяса, ты лежал на впитывающей подкладке в витрине мясной лавки.
Выписывались рецепты на патентованные средства, на таблетки от ложных схваток и распухания молочных желез.
Несколько дней спустя я увидела в одном музее «Забывчивого ангела», я увидела ребенка, его кроваво-красное тело, до того красное, будто оно вот-вот сгорит: спеша появиться на свет, он забыл что-то жизненно важное и теперь вернулся на это невообразимое место, чтобы взять то, что забыл,