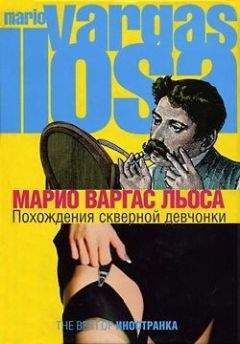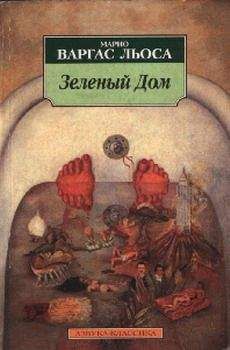Сперва Хуан навещал миссис Стабард раз в неделю, потом – два, потом – три и наконец поселился у нее: она отдала ему комнату, которая раньше принадлежала мужу – в последние годы перед его смертью у них были раздельные спальни, у каждого своя. Совместное проживание, вопреки опасениям Хуана, складывалось замечательно. Хозяйка дома никогда не вмешивалась в его дела, не спрашивала, почему он вдруг не явился ночевать или почему возвратился домой, когда соседи по Сент-Джонз-вуд уже отправлялись на работу. Она дала ему ключи от входной двери. «Единственное, на чем она настаивала, это чтобы я мылся не реже двух раз в неделю, – со смехом сказал Хуан. – Ты не поверишь, но три года бездомной жизни напрочь отвадили меня от душа. В доме у миссис Стабард я постепенно вновь усвоил извращенческую привычку времен Мирафлореса: принимать душ ежедневно».
Хуан помогал миссис Стабард в саду, на кухне, прогуливал Эстер и выносил мусор, а еще они с хозяйкой вели долгие, вполне семейные беседы, когда каждый держит в руках чашку чая и перед ними стоит блюдо с имбирным печеньем. Он рассказывал ей про Перу, она ему – про ту Англию, которая, с точки зрения swinging London, выглядела чем-то доисторическим. Мальчики и девочки в той Англии до шестнадцати лет учились в строгих закрытых школах, жизнь замирала в девять вечера – повсюду, за исключением районов с дурной славой: Сохо, Сент-Панкраса и Ист-Энда. Единственные развлечения, которые позволяли себе миссис Стабард и ее муж, это изредка сходить на концерт или послушать оперу в «Ковент Гарден». Летом, во время отпуска, они одну неделю проводили в Бристоле, в гостях у родственников, а вторую – на озерах в Шотландии, и мужу такой отдых очень нравился. Миссис Стабард никогда не была за границей, но очень интересовалась тем, что там происходит: внимательно читала «Таймс», начиная, правда, с некрологов, и слушала новости Би-би-си в час дня и восемь вечера. Ей и в голову никогда не приходило купить телевизор, а в кино она была считанные разы. Но у нее имелся проигрыватель, и она слушала симфонии Моцарта, Бетховена и Бенджамина Бриттена.
Однажды к ней на чашку чая заглянул ее племянник Чарльз, единственный из оставшихся близких родственников. Он тренировал лошадей в Ньюмаркете, и тетка искренне называла его выдающимся человеком. Наверное, так оно и было, если судить по красному «ягуару», который стоял у дверей дома. Моложавый, со светлыми вьющимися волосами и круглыми щеками, Чарльз страшно удивился, что в доме не нашлось бутылки good Scotch,[54] и ему пришлось удовольствоваться рюмкой москателя, который миссис Стабард откуда-то извлекла, чтобы побаловать его после знаменитых пирожков с огурцами и торта с сыром и лимоном. Чарльз с большой теплотой отнесся к Хуану, хотя не без труда сообразил, где находится экзотическая страна, из которой явился этот ручной хиппи, и вообще путал Перу с Мексикой, за что сам и упрекнул себя со спортивной прямотой: «Непременно куплю карту мира и учебник географии, чтобы больше не попадать впросак, как сегодня». Он просидел до самого вечера и нарассказал кучу историй про лошадей, которых в Ньюмаркете готовит к соревнованиям. А еще он признался, что тренером стал только потому, что не смог стать жокеем – помешало слишком крепкое телосложение. «Быть жокеем значит постоянно всем жертвовать, но зато нет на свете профессии прекрасней. Выиграть дерби! Победить в Аскоте! Что может с этим сравниться! Это куда лучше первого приза в лотерею!»
Перед уходом он полюбовался портретом Эстер, сделанным Хуаном. «Настоящее произведение искусства!» – вынес он свое суждение. «А я в душе потешался над ним, сочтя неотесанным болваном», – покаялся Хуан Баррето.
Но какое-то время спустя Хуан получил письмо, и эти несколько строк окончательно переменили его судьбу (первая перемена случилась после уличной встречи с миссис Стабард и собачкой Эстер). Не согласится ли «художник» написать портрет Примроуз, лучшей кобылы в конюшне мистера Патрика Чика, которую Чарльз тренирует: хозяин, очень довольный результатами, показанными на ипподромах, желает увековечить кобылу маслом на холсте. Он обещал 200 фунтов, если портрет ему понравится, а если нет, Хуан возьмет себе картину и получит 50 фунтов за труды. «У меня до сих пор голова кружится и звенит в ушах, как вспомню тот миг, когда до меня дошло, о чем толкует в своем письме Чарльз», – Хуан закатил глаза, изобразив полный восторг.
Благодаря Примроуз, а также Чарльзу и мистеру Чику, Хуан из разряда нищих хиппи перешел в категорию хиппи салонных. Талант и готовность обессмертить в масле кобыл разных возрастных категорий, производителей и скакунов («Прежде я никогда и не знал ничего об этих зверюгах») постепенно открыли ему двери в дома коннозаводчиков и владельцев лошадей. Мистеру Чику изображение Примроуз понравилось, и обалдевший Хуан Баррето получил обещанные 200 фунтов. И первое, что он сделал, это пошел и купил миссис Стабард шляпку с цветами и подходящий к ней зонтик.
С тех пор прошло четыре года. Хуан так до конца и не поверил в реальность фантастического поворота в своей судьбе. Он написал не меньше сотни полотен с изображением лошадей и сделал бессчетное количество рисунков, набросков – карандашом и углем. Теперь у него было столько заказов, что хозяевам конюшен из Ньюмаркета приходилось неделями дожидаться своей очереди. Он купил домик на полпути между Кембриджем и Ньюмаркетом, а затем и pied-à-terre[55] в Эрлз-Корт, чтобы было где приткнуться во время наездов в Лондон. Всякий раз, попадая сюда, он непременно навещал свою добрую фею и выводил на прогулку Эстер. Когда собачка померла, они с миссис Стабард похоронили ее в саду.
За тот год я виделся с Хуаном Баррето несколько раз – почти в каждый мой приезд в Лондон, а он, в свой черед, на несколько дней остановился у меня, когда решил посетить Париж, чтобы посмотреть выставку в Гран-Пале – «Век Рембрандта». Мода на хиппи только-только добралась до Франции, и люди на улице застывали как вкопанные и с изумлением глазели на Хуана и его немыслимую экипировку. Он был прекрасным человеком. Собираясь в командировку в Лондон, я непременно заранее извещал его, и он исхитрялся вырваться из Ньюмаркета, чтобы сводить меня на концерт поп-музыки и дать возможность хотя бы на одну ночь окунуться в атмосферу привольной лондонской жизни. Благодаря ему я делал то, чего не делал никогда прежде: до утра шлялся по дискотекам или вечеринкам хиппи, где воздух был пропитан запахом травки и подавались пирожки с гашишем, которые таких новичков, как я, отправляли в вязкие, желеобразные сверхчувственные странствия, иногда забавные, а иногда перемежаемые кошмарами.
Самым удивительным – и, к чему скрывать, самым приятным – на этих сборищах была легкость, с какой любая девушка соглашалась стать твоей сексуальной партнершей. Только там я понял, до чего расширились границы морали по сравнению с нормами, в которых был воспитан, скажем, я сам теткой Альбертой и которыми продолжал в определенной степени руководствоваться в своей парижской жизни. Во всемирной мифологии француженки пользовались славой женщин свободных, лишенных предрассудков и готовых без ломаний уступить мужчине и отправиться с ним в постель, но на самом-то деле подобную вольность довели до последних, неслыханных пределов именно хиппи – те девочки и мальчики, что устроили лондонскую революцию. Они могли – во всяком случае, в том кругу, где вращался Хуан Баррето, – переспать с совершенно незнакомым человеком, с которым только что танцевали, а потом как ни в чем не бывало вернуться к веселящимся приятелям и через какое-то время повторить то же самое с кем-то другим.
– В Париже ты жил как и подобает типичному сотруднику ЮНЕСКО, – подшучивал надо мной Хуан, – как и подобает пуританину из Мирафлореса. Но спешу тебя заверить: и в Париже есть много мест, где царит такая же свобода, что и здесь.
Он, конечно, был прав. Моя парижская жизнь в общем и целом была довольно скромной. Даже в те периоды, когда не было контрактов, я тратил выпавшее мне свободное время не на гульбу и кутежи, а на уроки русского языка с частным преподавателем. Я уже мог переводить с русского, но пока не чувствовал себя в языке Толстого и Достоевского так же уверенно, как в английском и французском. Русский я полюбил и читал на нем больше, чем на двух других. Внезапные поездки в Англию на выходные, ночи с музыкой, травкой и сексом в swinging London внесли заметные перемены в то, что до сих пор было (и будет в дальнейшем), в общем-то, очень аскетичной жизнью. Но благодаря лондонским уик-эндам, которыми я сам себя премировал после завершения работы по очередному контракту, и благодаря Хуану Баррето я словно бы стал другим человеком: танцевал так же, как эти растрепанные босоногие юнцы, курил травку или жевал пейотль[56] и почти всегда завершал ночь с какой-нибудь случайной партнершей, при этом любовью мы часто занимались в самых неподходящих местах – под столом, в мужском туалете или в саду. Девушки порой бывали совсем юными, но мы иногда не успевали обменяться даже парой слов, и я тотчас забывал имя мимолетной подружки.