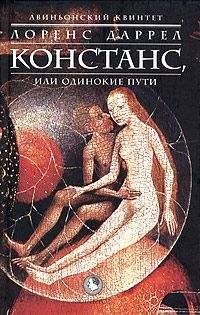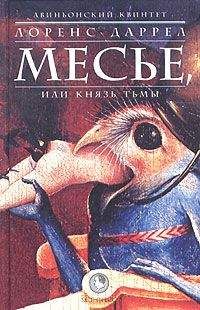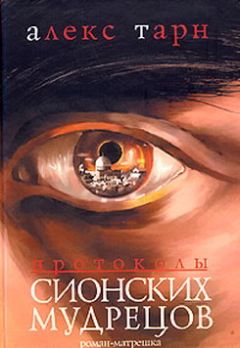— Смотрите! — крикнул кто-то, когда мы объехали дюну.
Нашим глазам явился маленький оазис, а в паре сотен ярдов от него коптский монастырь. Наверное, когда-то Абу-Фахим был очень красив, а теперь оказался основательно разрушен. Чтобы проникнуть в тайну его стиля и очертаний, пришлось бы расчищать башенки и готические звонницы. Однако почти любое здание в этом странном романтическом ансамбле поражает воображение. Два главных амбара соединялись сходнями, соединенными в виде моста. Принцу все очень нравилось, и он пристально вглядывался сквозь очки в памятное ему место.
— Ну вот! — воскликнул он. — Старый Мост Вздохов все еще на месте. Его не удалось разрушить.
Он сам лично с детским удовольствием проверил большой шатер, даже стукнул по колышку деревянным молотком, но пришедший в ужас слуга отобрал у персоны королевской крови молоток и даже произнес что-то негодующее на гортанном арабском языке.
Были расстелены ковры, поставлены диваны и даже последнее изобретение итальянцев, переносной холодильник, в котором оказались шербет и холодный чай с лимоном. Все изнывали от жажды и тотчас отдали должное чаю, усевшись большим полукругом по обе стороны от принца. Разговор сразу же перешел на политику, ну а мы с Сэмом, шепотом извинившись, пошли в монастырь.
— Почему бы нам не поискать пропавшего монаха? — с мальчишеским азартом предложил мой друг.
— Под землей наверняка есть провалы и погреба, и они находятся неглубоко, — ответил я.
Воспользовавшись биноклем принца, мы внимательно оглядели всю округу. На возвышении рядом с монастырем я заметил красные вехи, воткнутые в песок, и подумал, что кто-то производил тут замеры — возможно, эти красные штуки что-то вроде теодолитов. Немного правее на верхушке дюны на фоне неба двигались цепочкой легкие танки и командирские автомобили, выполнявшие какой-то загадочный боевой маневр. Мы обернулись, чтобы пару раз помахать колоритной компании, расположившейся внизу в оазисе. Верблюды стонали и явно были в плохом настроении. Потом мы стали спускаться и вошли в пропекшиеся на солнце ворота перед маленьким строением. Оно было возведено из смеси соломы, кирпича и цемента, что придавало стенам, вернее тому, что от них осталось, странный вид — похоже на плетень, присыпанный землей. Однако монаха нигде не было видно, не нашли мы и никакого намека на подземное убежище, где он мог бы прятаться. Страшно разочарованные, мы постояли там пару минут и, выкурив по сигарете, пошли обратно — по крайней мере, сделали пару шагов.
И тут началось — совершенно неожиданно, так, будто, скажем, опрокинулась твоя лодка. От внезапности мы на время оцепенели и оглохли — казалось, будто целое минное поле взрывалось абсолютно беззвучно. Еще долго громыхало и трещало кругом после первой волны этого землетрясения — пустыня вздымалась живописными валами и столбами дыма — после цепи взрывов последовало долгое и глубокомысленное молчание, как мы поняли, правда не сразу, минометов.
— Господи! — вскричал Сэм. — Видно, мы зашли на их территорию.
Следующая очередь сухих щелчков и взрывов показалась нам почти демонстративной, словно подтверждавшей слова Сэма. Мы побежали, будто испуганные цыплята, нелепо сутулясь и раскидывая в стороны руки. По-видимому, те красные вехи были пограничными столбиками, отмечавшими демаркационную линию, и мы старались убежать от них подальше, вниз, к подножию дюны, проваливаясь в глубокий песок. Краешком глаза я видел, что в оазисе тоже началась паника. Там поняли, что происходит. На нас, спотыкавшихся на бегу, показывали пальцами, и тут, в безотчетном порыве, к нам бросились слуги, словно надеялись отвести от нас опасность. И вдруг раздался мощный взрыв — у меня застучали зубы, череп как будто раскололся, казалось, мозги вообще вышибло.
Совсем растерявшись, обезумев от страха, мы с Сэмом припустились бежать к краю дюны, надеясь спрятаться за нею. Увы, прежде чем удалось достигнуть цели, нас накрыло тяжелой песчаной волной. Она упала на нас, как перина. Мы чувствовали себя как любители серфинга, попавшие в западню океанских волн, как муравьи, накрытые оползнем.
Пустыня взрывалась как будто на мне и во мне, и казалось, мозги мои распухли, переполненные тьмой и песком. Язык тоже распух, стал черным от жары и гари и не помещался во рту. Обо всем этом я успел подумать, пока падал, едва слыша стоны и шепот где-то справа от себя. Потом глухой удар — будто кто-то ударил топором по моей спине — так, что боль завладела всем телом, и закололо в кончиках пальцев, словно по ним пропустили электрический ток. Я напряг все силы, пытаясь подняться, но не смог справиться со своими мышцами. Сэм тоже упал, угодив в такой же песчаный смерч, что и я. В момент временного затишья до моего слуха донеслось чирканье гильз о горячие камни и шипящие плевки невидимых винтовок.
Из того, что было потом, я помню только фрагменты, как из разрезанной на части киноленты, кусок оттуда, кусок отсюда, нечеткие и пугающие образы. Однако еще более пугающими были обрывки разговора, зовущие голоса. Гортанные арабские крики и рыдания — слуги, движимые своей преданностью, проявили себя отчаянными храбрецами. Они были рядом с нами, когда мы катились вниз по дюне, и кровь проступала на новенькой форме цвета хаки. Полагаю, нас подобрали уже обмякшими, как тряпичных кукол, и отнесли в брезентовую палатку — к доктору Дрекселю, который успел произвести лишь предварительный осмотр, так как стрельба приближалась и все бежали прочь, побросав в оазисе половину вещей. В момент просветления я услышал, как принцесса воскликнула:
— Боже мой, у меня вся вуаль в крови. — В ее голосе были печаль и упрек.
Потом Дрексель сказал:
— Дайте мне немного времени, надо осмотреть их.
— Он же врач, в конце концов, — с раздражением произнес принц.
Меня, стонавшего от боли, куда-то перенесли, потом положили на брезент. Я услышал щелканье ножниц и ощутил прохладу в том месте, где на мне разрезали одежду. Потом кто-то тихо, так что я не разобрал, чей это был голос, сказал:
— Второй, кажется, отошел.
До моего слуха донеслись жалобные стоны и странное хныканье слуг — поддержать в горе хозяев считалось хорошим тоном. Крови они боялись даже больше смерти, особенно темной до черноты крови, которая текла рекой, как Нил, или била черной струей из разрезанной артерии, или красными, как от вина, пятнами засыхала на коже.
— Рядом с проволочным ограждением есть перевязочный пункт, — сказал Дрексель. — Там можно их обмыть, но что касается всего остального… ничего не поделаешь.
— Никогда не прощу себе, — тихим свистящим голосом произнес принц. — Это моя и только моя вина.
Его слова гортанно подхватили арабы, повторяя их, заодно утешая, объясняя, прощая, по крайней мере, мне так казалось. Боль не отпускала меня, становясь все сильнее, видимо, в ней природой заложена «самоанестезия» — потому что, достигнув определенной точки, она ввергла меня на какое-то время в беспамятство.
Потом я услышал шуршание и скрип — это мы ехали на автомобиле в сторону проволочного ограждения. Кто-то предложил дать мне разбавленного виски, однако Дрексель не позволил:
— Он потерял слишком много крови, пожалуйста, не надо.
— Никогда не прощу себе, — проговорил принц.
Сочувственный гул голосов возле заграждения из колючей проволоки напоминал гудение пчел в опрокинутом улье. Нами занялись чьи-то ловкие и чуткие руки. Офицеру, правда, хотелось выразить принцу свои соболезнования, но принц едва его не растерзал:
— Хватит. Не видите, у нас двое раненых? Где перевязочный пункт?
Пыль, шорох песка, тучи мух, привлеченных кровью. Игла, глоток холодной воды, сон.
О том, что Сэм убит, я узнал позднее.
Как и о том, что оружие, из которого нас вдруг обстреляли, было нашим — это киприоты перевозили на мулах минометы и тренировались в стрельбе по мишени.
За месяц, что я провалялся в полубеспамятстве — в шоке от смерти моего друга и в послеоперационном шоке, после того как врачи хорошенько поковырялись в моем позвоночнике, — много чего произошло. Невесть откуда, вызвав у меня раздражение и ужас, взялся Кейд. Благодаря принцу, ему удалось пристроиться к египетской миссии и сделаться моим денщиком. Со стороны моих хозяев это был благородный поступок. Откуда им было знать, какой кошмар, какое отчаяние я испытаю, когда, придя в себя, увижу сидящего в изножий кровати трусливого соглядатая последних дней моей матери — слугу, читавшего ей Библию, ее Кейда? Он сидел молча, не выказывая никаких чувств, правда, с выражением глубочайшего осуждения всех и вся — Египта, войны, принца, моего состояния — всего. Стоило мне открыть глаза, как он принялся причитать насчет армии, немцев, войны, мира, погоды. Свои пуританские устои он таскал на шее,[64] как мертвую ворону. Каждый день у меня возникало искушение прогнать его, и все же… Я нуждался в нем. Когда-то он был санитаром в психиатрической лечебнице, поэтому умело переворачивал и мыл меня, и также массировал мои переломанные руки и ноги. А так как у меня болели глаза (видимо, из-за контузии), то я разрешил ему читать мне — новые письма из Женевы: письма Констанс, которая к этому времени уже все знала, так как получила извещение о гибели Сэма. «Констанс из всех нас делает трусов», — слышал я голос Сэма, пока Кейд читал ее храбрые письма, полные такой невысказанной муки, и начисто лишенные бравурности. «Я и не думала, что буду до такой степени ошарашена, ведь, в сущности, этого следовало ожидать. Обри, опиши мне все подробно, как бы это ни было ужасно. Я хочу как можно лучше прочувствовать весь этот кошмар, который, возможно, станет самым ценным переживанием в моей жизни. Он говорил обо мне, скучал? Да нет, вряд ли. Он любил меня, но был свободен, как мотылек, и крылья несли его на юг, к солнцу. Здесь же то слякоть, то снег, и все это, и далекий Нил кажется чем-то нереальным. Кстати, я долгое время думала, будто Сатклифф выдумка, но теперь точно знаю, что он существует. Зачем тебе это понадобилось? Я лечу его жену — замещаю коллегу. Ну и ménage![65] Он попросил разрешения проводить меня, и я согласилась. Едва он как-то заговорил о диване Фрейда, я сразу поняла, что это «твой» Сатклифф. Я сообщила ему, что диван доставили в целости и сохранности. Теперь мы друзья, близкие друзья. В нем много странного. Тем не менее, таких мужчин женщины вполне могут любить. Себя он называет старым бородавочником, обсыпанным перхотью. Теперь, когда Сэма не стало, так важно иметь кого-то, с кем можно поговорить. Обри, пожалуйста, выздоравливай, пожалуйста, напиши мне обо всем».