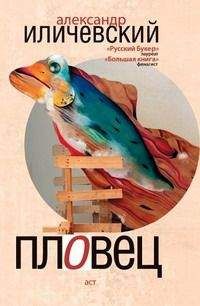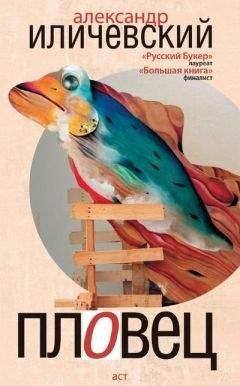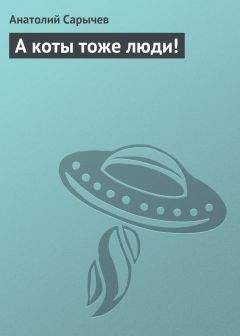На подъезде к Велегожу я тормознул, проблевался в распахнутую дверь — и мной овладела решимость. Сдал назад из проселка, забуксовал, но чудом соскочил — и, крутанувшись, врезал по направлению к Дугне, глиссом взметывая из-под колес лопасти слякоти.
В кромешной тьме я добрался до островов. В этом месте в излучине Оки располагаются два узких, как ящерицы, острова — место глухое вполне даже летом. Я вышел из машины; прозрачным колоссом небо обрушилось на меня. Ноги не держали. Я опустился в слякоть и потерся лицом о колесо. Я так давно не плакал, что не соображал, чего я хочу. И когда, наконец, всхлип раскрыл мне дыханье, страх и удивленье — вот два чувства, что стали глупо бороться друг с другом во мне.
Я открыл багажник и пошевелил лампочку в патроне. Тусклый свет озарил мое видение. От тряски ее поза изменилась. Теперь она лежала навзничь с вытянутыми вдоль бедер руками. Величественное спокойствие возносилось над ее лицом. Я взял ее на руки и начал спуск по лесистым уступам древней поймы.
Местами склон был очень крутым. Впотьмах я был обречен на частые падения, во время которых старался изо всех сил прижать ее к себе. Если упускал, то не поднимаясь, обдирая о наст ладони, ползал на коленях вокруг, отыскивая ее. Спустившись ближе к реке, я вспомнил об опасности — набрести на делянки бобров, полные острых, сгрызенных на высоте колена веток.
Несколько раз, выбиваясь из сил, я садился на корточки перекурить. Зажигая спички, я подносил их к ее лицу, чтобы еще и еще раз вглядеться. Спичка догорала, и только чуть погодя гасло зеленоватое пятно ее профиля. И я снова чиркал спичкой, боясь, что теперь в темноте она исчезнет навсегда. Господи! Почему Ты не засек эту морзянку?..
Впереди едва видно забелела между деревьев река. В последний раз я сел в снег передохнуть. От страха тянуло в сон. Гигантская пасть черноты накатывала на меня — и я, хотя и отстранялся, был рад, наконец, пропасть в ней…
Вдруг раздался грохот. Треск во все небо расколол ночь. Впереди ожили прибрежные деревья. В полном безветрии они завалились и пошли нетвердым трескучим шагом. Река — гигантский выгнувшийся зверь — напряглась всей неимоверной длиной и мощью, шевельнулась и встала до неба…
На острова теперь мне было не выбраться. Вскоре стало еле видно светать. Я мог идти не оступаясь. Черная в сизых контурных пятнах река шумно дышала впереди. Недостижимые острова шли над ней. Я сел на поваленное дерево. Держа ее голову в ладонях, чуть покачиваясь, согнулся и закрыл глаза.
Мне приснился день. Огромный яркий день у моря. У Каспийского моря — в которое мой сон втек вместе с рекой. Я лежал на песке, слушал прибой — и солнце, яростное солнце, вкрадчиво опускалось в мою гортань через отверстое переносье.
Когда я очнулся, по Оке уже во всю шествовал грузный лед. Льдины, как отмершие облака, ноздреватые, грязно-белые, натруженные качкой лета, тяжко сталкивались, шли вместе, расходились. Придонный стеклянистый лед внезапно, припадочно всплывал, как подлодка с ходу, сбрасывая с себя потоки воды. Тут же он шел в обратку, гнул, грубо, мощно ломал кусты, бубенцово звенел, бряцал и щелкал — и, откатив, присоединялся к шествию…
Неся ее на руках, я вошел в шугу, в плотное, позвякивающее крошево. Крупнозернистый донный лед хорошо держал подошвы. Я дождался, когда подплыла подходящая льдина, — и опустил на нее тело девушки. Льдина погрузилась, но вода дошла только до висков.
Удерживая одной рукой, нашарил в кармане перстень и вложил ей в губы.
Я отпустил ее. Вскоре она выбралась на середину — в самую гущу ледохода. Казалось, льдины расступаются, давая ей ход.
Перстень сиял по темной свободной воде, но выбравшись дальше, потускнел и слился с льдистым сверканием речного простора.
Шепча и кланяясь, я попятился. Оскальзываясь, я съезжал в воду, но, не смея повернуться спиной, продолжал упорно пятиться и, как забубенный, что-то шептать.
Повесть о стеклеУ нас иногда так бутылку закупорят, что помрешь от жажды или зубы обломаешь. Через это со мной однажды вышел случай.
Давно это было, Родину мою еще не совсем успели раскурочить — самый разгар зачинался; народ только-только стал вымирать, а пока с непривычки нищенствовал или отсиживался по ресторанам-заграницам. Но стрелять уже начали. (Вообще это только сейчас — в Северной Италии в начале апреля, когда миндаль кругом, как невеста, облачился цветом зари, — вспомнить можно без содрогания. А тогда — не жизнь была, а как бы сплошное ее, жизни, сотрясение.)
Так вот, в ту пору однажды купил я в буфете Консерватории бутылку крымского вина. Решил выпить с горя. Грустно было — жена выгнала из дома.
— Иди, — говорит, — денег где-нибудь достань — хоть своруй, а то мне скучно.
А надо сказать, по начальной профессии человек я совсем не денежный. Математик. Покамест жена так выкаблучивалась, я за год полдюжины работ сменил.
Так сказать, от теории к практике: за алгебраическую топологию совсем платить перестали, так я устроился оператором в Институте механики, на аэротрубе. Крылатых ракет макеты продувал. Работа совсем непыльная, между прочим. Сядешь верхом, пришпандоришь датчики, солнце из распашного цехового окна в трубу ярит, пропеллер стрекозиным нахрапом в зенках чешет, кругом турбулентность стрежни форсажем рвет и мечет: и вроде как летишь — интересно даже.
А как отрубили электричество, встал пропеллер, определился я на Птичьем рынке торговать почтарями — покуда все они у меня от чумки сенной не отлетались.
После назанимал у гавриков с Птички денег на прокрут — стал челноком возить из Чада куртки кожаные: снабжал точку на толкучке в Сокольниках. Три дня там, два здесь. Шестнадцать раз сгонять успел — жене на радость: кожанки из шимпанзе хорошо шли, раскупались вмиг, хотя товар дорогущий. Особенно бандиты любили в шимпах щеголять: называли — «вторая кожа».
Мне до слез было жалко всех этих птиц, обезьян. Жену проклинал, но, любя до смерти, грузил вонючие клетки, вез вороха шкур в баулах — целые селения шимпов. Совсем извелся на такой работе. Всю дорогу чудились мне преступные толпы, марширующие по проспектам в моих куртках. А за ними — духи голых обезьян — то стенающие, то передразнивающие тех, кто щеголяет в их шкурах…
Хорошо, на семнадцатый раз у меня на таможне всю партию отобрали. По всему — соседушки сокольнические стуканули начальничкам. А закупался я на всю прибыль, как фраер: не припас на черный день почти ничегошеньки.
Говорит мне таможня:
— Попал ты, парень: кожа приматов хуже наркоты.
Так и вышло — по сказанному: на деньги большие попал — откуп, долги. Ужас меня объял, скушал, жизнь совсем обрыдла.
Жена мне говорит тогда:
— Ты бы ушел пожить еще куда-нибудь, а то и меня с тобой прищучат.
А я тогда в последний заезд подхватил в Чаде дизентерию — хлебнул в аэропорту, в сортире, две горсти воды из-под крана — не стерпел, жарко там очень.
Не пожалела.
— Иди, — говорит, — подобру-поздорову.
Я и пошел: в Зюзино ночевать, к приятелю — в аспирантскую нашу общагу. Еле дошел — то и дело прятался по кустам с нуждой неотложной.
В Зюзьке месяц промаячил орлом над толчком, как джин дизентерийный, чуть не помер. А подайся я в больницу — сразу бы засветился. Так бы и кончил: в дерьме и в крови, как в кино, по уши.
Однако пока болел — отстрелил кредиторов моих кто-то.
Женка ж меня обратно пустить — ни в какую. Отвыкла, видать, пока прятался.
Ну, думаю, ладно: разбогатею — сама прибежишь.
Устал я тогда очень. Исхудал — одни мозги да душа остались.
К тому ж до смерти устал от страха трястись — достали: жена, покойные кредиторы. Дай, думаю, тайм-аут возьму — расслаблюсь, пораскину, как дальше быть, может, что и надумаю с толком.
И полюбил я тогда читать книжки и по городу ходить. Стишки повадился на ходу придумывать. Математикой кое-какой снова в уме занялся. Но все больше стишки, конечно. Днями целыми ходил, шлялся где ни попадя, нагуливал настроение на поэзию — чтоб ввечеру стишок какой нацарапать на бульваре.
Ночевал я в той же общаге — в кастелянной, чтоб приятеля с бабой новой его не тревожить. Ключ подобрал и ночью вскарабкивался на сложенные матрасы. Как принцесса — на горошину. Нехорошо там спалось, несмотря что мягко очень: спишь, как на облачности летаешь — туда-сюда во сне болтало, будто падаешь и взмываешь, а земля, твердь — с горошину ту самую, что заснуть глубоко не дает, так как ворочается под поясницей — далеко и жутко. Все оттого, что матрасы чересчур высоко были наложены — до потолка носом подать. Форточка на уровне глаз маячила. В нее звезда одна вплотную смотрела, мигала всю дорогу небесную: мол, держись, браток. Я и держался.
И еще минус — рано вставать приходилось, пока не нагрянет комендантша.
Чуть свет — вскакивал, умывался и шел бродить по городу, как собака, которую из дома вышвырнули, а та — не в силах привыкнуть к воле — повадилась ночевать на чужом пороге.