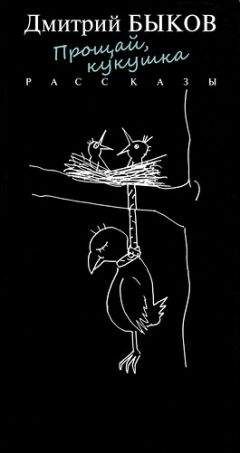— Ах, да я давно догадался! — воскликнул Степанов. — Что за секреты, подумаешь, все понятно со второй страницы…
— Да не в том смысле. — Проводник поправил очки и наклонился к его уху. — Я полупроводник, понимаете?
— Не понимаю, — сказал Степанов.
— Только в одну сторону, — сказал проводник. — Это там было написано, на стене в поезде. Просто никто не запоминает, а зря. Ну, вы отдохните пока. И потом это… там еще сад, в нем яблоки. Помните, как в колхозе, после первого курса…
— Да-да, — сказал Степанов. — Помню, помню. Яблоки.
Анна в последнее время сама себя не понимала. Она совершала поступки, в которых не было и тени логики: все происходило по чужой, жестокой и непостижимой воле. Ей хотелось к Борису, но она ехала к Петру. И если в случае с Борисом, как назло, всегда опаздывал троллейбус и не ловилось такси, когда она к нему ехала, или прежде времени возвращался хозяин квартиры, в которой они уединялись, — то с Петром все складывалось идеально. Машина подкатывала сама, и водитель брал недорого. В отличие от Бориса, Петр был разведен. Квартира у него была собственная, и Анну там всегда ждали. Единственная проблема состояла в том, что Анна не любила Петра. Ей было с ним неловко в постели и скучно вне. Она вообще не знала, откуда взялся в ее жизни этот Петр, — познакомились по чистой случайности, на улице, она дала телефон, хотя никогда не делала ничего подобного, а там покатилось. Да и Борис что-то опять раздумал уходить от жены, так что первое время Анна действовала назло ему. А потом чужая воля завертела ею так, что она не успевала оглянуться. Вот и теперь она ехала к Петру, даже не помня толком, он ли по обыкновению пригласил ее на свою знаменитую воскресную пиццу, сама ли она напросилась в гости, — ехала потому, что какая-то необъяснимая сила ее туда несла.
Петр ждал ее — как всегда строгий, подтянутый, безупречно одетый (отчего-то даже дома он встречал ее в костюме, при неизменном коричневом галстуке). Из кухни доносились вкусные запахи, паркет сиял чистотой, на столе в комнате сверкали бокалы. Больше всего на свете Анне хотелось, чтобы Петр на этот раз молчал, не заводил в сотый раз нудных бесед о своем бизнесе, о том, как он и подобные ему оздоровляют и поднимают Россию, — но Петр неумолимо осуществлял свою программу, в которой разговоры были обязательным пунктом. Потом они ели. Потом Петр ушел в ванную, чтобы принять непременный душ и не мешать ей раздеваться. Боря обычно раздевал ее сам, и это нравилось Анне гораздо больше.
Не докончив омовения, препоясанный полотенцем, Петр вдруг вошел в комнату. Анна в задумчивости снимала колготки, когда он произнес:
— Мыло «Сейфгард». Тройная защита для всей семьи. Ты делаешь одно движение, мыло делает три. Не хочешь ли купить у меня партию мыла «Сейфгард»? Я являюсь его эксклюзивным дистрибьютором.
— Что с тобой, Петя? — ахнула Аня.
— Телефон пять-пять-пять, четыре-четыре, три-три, — как ни в чем не бывало, продолжал Петр. С него текло на паркет. — Ночью дешевле.
— Петя, я пользуюсь «Каме», — пролепетала Аня.
— Прости, — спокойно произнес Петр и исчез в ванной.
«Господи, что с ним? И что со мной? — думала Анна, так и застыв на кровати в полуодетом и, надо признать, довольно привлекательном виде. — И откуда у меня вдруг, в этой чужой комнате, такое ощущение перелома в судьбе? Словно вот здесь, сейчас, когда я сижу на кровати и жду совершенно чужого мне мужчину, кто-то наверху решает мою судьбу. Именно сейчас она переламывается, и если я не сделаю лишнего движения, не буду раздеваться дальше, не пошевелюсь, то все произойдет как надо. У меня и раньше бывало такое чувство паузы — будто ветер застыл, прежде чем перемениться, но никогда так отчетливо…»
И точно, стоило Петру в бордовом махровом халате выйти из ванной и направиться к кровати, раздался звонок в дверь. Анна испуганно стала натягивать колготки, Петр решительно направился к двери и поинтересовался, кто там.
— Свои, — ответил знакомый голос, и Петр, хоть и пробурчав под нос «свои все дома», начал щелкать бесчисленными стальными замками. На пороге стоял Борис.
— Одевайся, Аня, — сказал он, не удостоив Петра приветствием. — Ты едешь ко мне. Я все решил.
— Боренька, ничего не было, — пролепетала Анна с несвойственной ей интонацией жалкого самооправдания, чувствуя, однако, что душа ее поет.
— Я знаю. Чтобы у тебя с этим что-нибудь было, — презрительно бросил Борис, не глядя на Петра, — должен мир перевернуться. Скорее дубленки на Ленинском подешевеют. Едем, такси ждет внизу.
Аня не успела даже удивиться, откуда у Бориса, вечно перехватывавшего у знакомых в долг, деньги на такси. Она стремительно оделась, чуть не прищемив колготки молнией на сапоге и больше всего заботясь о том, чтобы не взглянуть на Петра, не задеть его случайным жестом — такую брезгливость вызывал он у нее теперь. Борис тоже не попрощался. Они вышли под снег.
— Боренька, — спрашивала Анна, прижимаясь к нему в машине. — Откуда у тебя его адрес?
— Проследил однажды, — небрежно отвечал Борис.
Здесь была какая-то сюжетная нестыковка, но Анне лень было вдумываться. Ее укачивало в блаженном тепле.
— А с Ниной ты… все?
— Окончательно, — кивнул Борис и нахмурился.
Давно ненавидя жену, он был все-таки привязан к дочери. Но Анне не хотелось омрачать этой мыслью безмятежного счастья, которое переполняло ее. К тому же водитель включил радио, и раздалась песенка, которую она слышала так часто в последнее время — песенка с глупыми-преглупыми словами и разудалой мелодией: «Простые горести, простые радости, щепотка горечи, щепотка сладости»… Песню эту она слышала строго два раза в день, утром и вечером, по какой-то странной закономерности: то в такси, то по телевизору, то из-за стены, от соседей. Анне и в голову не приходило, что это песенка для титров сериала «Простые радости», где у нее была роль.
К счастью для Бориса, случилось так, что старый, твердых правил драматург Каменькович успел написать только вступительный эпизод этой серии и слег. До всех дел Каменькович сделал себе имя и трехкомнатную квартиру в центре на пьесах из пионерской жизни — «Сердце вожатого», «Председатель совета отряда», «Сплетня», — которые триумфально, как советская власть, шествовали по ТЮЗам страны. К концу восьмидесятых вся эта розовая дребедень перестала ставиться, и Каменькович, три года помыкавшись в бездействии, вышел на режиссера Кулюкина, задумавшего ставить российские многосерийные новеллы на бразильский лад. Сейчас они вместе писали уже шестой проект. Каменькович сам придумал Петра, очень похожего на его положительных пионеров, председателей совета отряда, которые теперь и точно почти сплошь были в бизнесе. Он рассчитывал отдать Анну Петру, но поскольку в одиночку сериалы не пишутся, на его пути встало препятствие в виде молодого и перспективного драматурга Быстрова. Быстров, регулярный участник семинаров в Молчановке и большой авангардист, любил Бориса и не собирался уступать Анну кому попало.
Борис не устраивал Каменьковича тем, что это был типичный представитель современной молодежи, избалованный, рефлексирующий и неспособный к активным действиям. Он вечно не знал, чего хотел. Кроме того, Каменьковичу не нравилось, что у него есть жена Нина и еще Анна. У нормального человека должна быть жена, и все.
Но Каменькович заболел, и двадцатая серия досталась Быстрову. Он прочел вступительный эпизод и обалдел. Поначалу ему захотелось вообще похерить всю историю, начав серию наново, но потом он ощутил особый зуд злорадства. Старику и его любимчику с трехкомнатной квартирой в элитном доме следовало показать по полной программе. Борис ворвался очень вовремя. Опасность была в одном — следующую серию, по договору, опять должен был писать Каменькович. Он мог запросто помирить Бориса с гнусной Ниной, в свое время окрутившей его путем залета, и Аня со злости опять побежала бы к еще более мерзкому Петру. Сначала Быстров собирался оттянуться на хорошей, хотя и целомудренной любовной сцене, а потом все-таки сжечь между Борисом и его женой кое-какие мосты.
— Знаешь, как я мучился, — сказал Борис, утыкаясь ей в шею. Они не могли разлепиться уже третий час.
— Да, да, — глухо говорила она, — я тоже как не в себе, и все из рук валится. Как же ты все-таки решился? Я понимаю, что не имею права спрашивать, я сама хороша, как выяснилось, но все-таки…
— Господи, да ты-то чем виновата? — простонал он. — Я бы не удивился, если б ты со злости вообще за границу сбежала с миллионером, как эта… ну, Сафонова-то еще играла ее… Прости, прости…
— Самое главное, знаешь, — говорила она, гладя его спину, ероша волосы на затылке, тычась мокрыми губами куда попало, — самое главное, что я совсем, совсем не понимала, зачем я все это делаю. Я не помнила себя. Ты думаешь, мне была нужна эта его квартира… его деньги… замужество… Господи, да если бы я хоть на секунду смогла представить, что он мой муж, я повесилась бы от безысходности. Если бы ты не пришел… ну что же, я дала бы ему, и еще, и еще раз, но потом все равно побежала бы к тебе… поползла на брюхе…