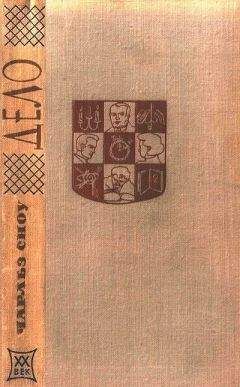Перед самым чаем дети ушли к себе слушать патефон. Мартин обратился ко мне:
— Не знаю, — сказал он, — просто не знаю. А ты?
Годами уже мы разговаривали, как посторонние люди. Но способность понимать друг друга с полуслова сохранилась: по тону голоса один улавливал мысль другого.
— Хотелось бы мне лучше понимать техническую сторону этого дела. Все-таки до известной степени было бы легче, как ты думаешь?
— По всей вероятности, — ответил Мартин с чуть заметной улыбкой.
Больше в тот день по этому поводу он не сказал ни слова.
На следующий день в то же самое время, снова получив от детей временную передышку, мы сидели в гостиной с Айрин и Маргарет. По окнам хлестал дождь; было бы совсем темно, если бы не проникавший из сада рассеянный, отраженный свет, который наполнял комнату зеленоватым подводным полумраком.
— Скверная история! — сказал Мартин, не обращаясь ни к кому в отдельности; сказал не с тревогой, а скорее с досадой. И опять мне стало ясно, что он почти ни о чем другом все это время не думал.
— Завтра утром мне предстоит разговор со Скэффингтоном, — обратился он ко мне.
— А нельзя ли Скэффингтона как-нибудь отложить? — спросила Айрин.
— Что ты скажешь ему? — спросил я.
Он покачал головой.
— Я все-таки очень надеюсь, что в конце концов ты с ним согласишься, — сказала Маргарет.
— А почему, собственно, ты на это надеешься? — вспыхнула Айрин.
— Ты представляешь, что должен был пережить Говард, если допустить, что Скэффингтон прав? А для нее, я уверена, это было еще хуже, — ответила Маргарет.
— Что ты думаешь сказать ему завтра? — повторил я свой вопрос.
— Прав Скэффингтон или нет? — спросила Маргарет.
Мартин посмотрел ей прямо в глаза. Он уважал ее. Он знал, что кому-кому, а ей придется ответить не увиливая.
— Известный смысл в том, что он говорит, есть, — сказал он.
— Значит, ты действительно думаешь, — сказала она, — что Скэффингтон может быть прав?
Она говорила спокойно, почти небрежно; казалось, она вовсе не настаивает на ответе. Но не ответить ей было нельзя.
— Мне кажется, что в словах Скэффингтона больше смысла, чем во всех других объяснениях, — сказал Мартин, — но все же смириться с этим не так-то просто.
— Ты считаешь, что он прав?
— Возможно, — ответил Мартин.
Неожиданно Маргарет разразилась смехом — смехом искренним и веселым.
— Ты только подумай, — вскричала она, — какими невероятными дураками мы все будем выглядеть!
— Да, я уже думал об этом, — сказал Мартин.
— Все мы, вообразившие себя тонкими знатоками человеческой натуры.
Но Айрин, что с ней случалось редко, не была расположена к шуткам. Нахмурив брови, она спросила Мартина:
— Слушай, а разве тебе так уж необходимо ввязываться в это дело?
— Что ты хочешь сказать?
— Предположим, что Скэффингтон решит действовать. Ведь тогда без неприятностей не обойтись?
Мартин переглянулся со мной.
— Мягко выражаясь, да!
— Ну хорошо, так зачем же тебе ввязываться? Я хочу сказать — разве это должно исходить от тебя? Разве это твое дело?
— Не то чтобы специально мое.
— А чье? — спросила Маргарет.
Он ответил ей, что по уставу колледжа первый шаг должны были бы сделать члены подкомиссии, то есть Найтингэйл и Скэффингтон.
— Вот видишь, — сказала Айрин, — обязательно ли тебе тогда принимать в этом деятельное участие?
— Нет, не обязательно, — ответил Мартин. И добавил — По правде говоря, чтобы не рассориться с половиной членов совета, мне следует держаться более или менее в стороне.
— Следует? — воскликнула Маргарет. Она покраснела. — Ты что, в самом деле хочешь, чтобы он отошел в сторонку? — горячо сказала она.
И почти тотчас же, словно ее отражение в зеркале, вспыхнула Айрин. Как ни удивительно, они с Маргарет прекрасно ладили. Даже мысль, что невестка может когда-нибудь посмотреть на нее с неодобрением или, тем более, посчитать ее черствой и эгоистичной, была неприятна Айрин. Потому что у нее, вопреки, а может, до известной степени благодаря всей ее светскости, было сердце простое и щедрое.
— Ну, — сказала она, — кто-нибудь ведь да уладит все это, если там вообще есть что улаживать. Если без нашего Мартина нельзя было бы обойтись, тогда, конечно, другое дело. А так, пусть с этим грязным делом возится Джулиан Скэффингтон. Он для этого создан. Этой паре ничего не стоит со всеми здесь перессориться. Я ведь что хочу сказать — только мы так славно устроились, первый раз в жизни у нас нет никаких врагов…
— Уж не в том ли дело… не боишься ли ты, что Мартину может повредить в будущем, если он вмешается?
Айрин ответила ей смущенно, с вызовом:
— Что ж, если говорить начистоту, — да, я боюсь и этого.
Маргарет покачала головой. Даже став моей женой, познакомившись с моими коллегами и увидав воочию, как тернист и извилист путь к успеху, она все еще сохраняла какие-то иллюзии. Ее дед вышел вместе со своим братом из членов совета колледжа в знак протеста против тридцати девяти догматов[6]. Иногда, когда мне хотелось поддразнить ее, я спрашивал, сознает ли она, какую роль для них — да и для нее тоже — сыграло то обстоятельство, что оба они были людьми состоятельными. Она сохранила прямодушие, унаследованное от них. Она вовсе не считала, что мы с Мартином скверные люди. Любя меня, она даже находила во мне некоторые достоинства. Но уловки, расчет, своекорыстье людей, прокладывающих себе путь к успеху, не встречали у нее сочувствия.
— Интересно, — сказала она, не обращаясь ни к кому в отдельности, — усомнилась ли в нем хоть раз Лаура?
— Нет, — ответил я.
— Для нее на свете никого не существует, кроме него, — сказал Мартин, — не представляю себе, чтобы она хоть на секунду могла усомниться в нем.
— В таком случае, на всем свете она была единственная. Воображаю, что она должна была пережить.
Я понимал, что Маргарет умышленно играет на наших лучших чувствах. Она тоже была непроста. Она совершенно точно знала, что ей нужно от Мартина и — если я смогу принять в этом деле участие — от меня.
Но Айрин парировала, небрежно заметив:
— Мне-то она этого, во всяком случае, не расскажет. Меня она терпеть не может.
— Почему бы? — спросил я.
— Представить себе не могу.
— Наверное, ей показалось, — заметил Мартин, — что ты взяла Дональда на прицел.
— Ну уж этого ей показаться не могло. Никак не могло, — закричала Айрин, охваченная шумным весельем при одной только мысли (несмотря на то что терпеть не могла Говарда и уже много лет была примерной женой), что ее подозревают в нарушении супружеской верности.
Затем она обратилась к Маргарет:
— Им ведь и помочь будет не так-то легко. Как ты не понимаешь?
— Опять же мягко выражаясь, — сказал Мартин.
— Ты не станешь впутываться без особой нужды? Вот все, о чем я тебя прошу. Не станешь?
— Неужели, по-твоему, я когда-нибудь впутывался во что-нибудь зря?
Никто из нас не знал наверное, что именно он собирается предпринять и собирается ли он вообще предпринимать что-нибудь. Даже когда позднее, в тот же день, на обеде у ректора он начал осторожно выяснять мнения, по тону его было невозможно определить, что думает на этот счет он сам.
До тех пор, пока Мартин не занялся выяснением мнений, обед протекал по раз и навсегда установленному торжественному распорядку кроуфордовского режима. Обед этот вообще не состоялся бы, если бы не мое присутствие в Кембридже, так как Кроуфорды вернулись домой только вечером на второй день рождества. Однако Кроуфорд, с которым меня никогда не связывали особенно дружеские отношения, поставил себе за правило чествовать всех без исключения бывших членов совета колледжа, добившихся некоторого успеха во внешнем мире, когда они приезжали в Кембридж. Итак, вечером того же дня Найтингэйлы, Кларки, Мартин с Айрин, мы с Маргарет и сами Кроуфорды пили в ожидании обеда херес в величественной гостиной резиденции — мужчины во фраках, так как в вопросах этикета старомодный кембриджский радикал Кроуфорд не соглашался уступить ни на йоту.
Он стоял, засунув руки в карманы, и, раздвинув фалды, с непобедимо довольным видом грел спину у собственного камина. Это был массивный, невысокий человек, который и сейчас, в семьдесят два года, ходил легкой, упругой походкой. Ему никак нельзя было дать семидесяти двух лет. Его бесстрастное лицо Будды, круглое и с мелкими чертами, было гладко и моложаво; точнее сказать, оно было вне возраста — такие лица часто встречаются у азиатов и очень редко у европейцев. В черных блестящих, гладко причесанных волосах не было и намека ка седину.
С радушием, не относящимся ни к кому в отдельности, он поговорил с каждым из нас. Мне он сказал, что перед самым рождеством слышал разговор обо мне в клубе (он подразумевал «Этиниум»[7]); Найтингэйлу — что тот очень удачно купил для колледжа последние акции американских предприятий; Мартину — что недавно приехавший американский физик-аспирант подает, по-видимому, большие надежды. Когда же мы перешли в столовую и сели за стол, он все с тем же радушием обратился уже ко всем сразу. Темой беседы, пока мы ели великолепный обед, он избрал привилегии.