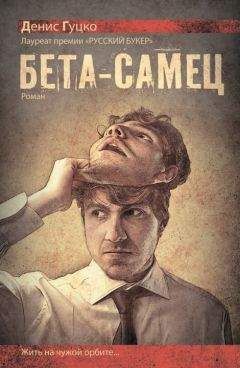…Крупные, не подгоревшие семечки. Слегка подсоленные. Лоснящиеся от масла. Выпуклые (они называют их: бедрастые). До́ма, когда ещё был жив дедушка, когда вечером по телевизору что-нибудь интересное и все дела переделаны, нажаривали целую сковороду семечек. Запах жареных семечек — запах праздности. Спорили, кто пойдёт на кухню в этот раз. Каждый считал себя лучшим. Заранее, за полчаса до начала…«— Ну иди, уже пора, не успеешь». Ещё дымящиеся, потрескиваюшие высыпали на газету, постланную на стул, на одинаковом расстоянии от каждого, накрывали другой газетой… «— Пусть потомятся немного, дойдут». Там же, на стуле, тарелка для шелухи. К концу фильма рыхлый чёрно-белый холмик на тарелке и солёные губы…
Женщина щелкала семечки и смотрела в окно.
И совершенно невозможно стало идти дальше, пересечь её невидимый праздный взгляд. Пройдёшь мимо, она посмотрит тебе вслед…
Он побежал обратно.
Лапин сидел на каске, положив руки сверху на ствол, а подбородок на руки. Митина каска лежала рядом. Трое, стоявшие у ворот крайнего дома, перегнувшись пополам, подставляя воде плечи и спины, шлёпали по дороге, на полпути к проходной. Увидев Митю, остановились (задние наскочили на передних), замешкались. Один из них, выступая вперёд, сделал округлый приглашающий жест — вбок и чуть за спину — к дому.
— Пойдём отсюда, — буркнул Митя, входя под навес и беря свою каску — Забыл вот. Пойдём.
Лапин послушно встал.
— Товарищ майор, там солдаты за стеной. Сейчас наслушаются, и пойдёт испорченный телефон.
— Нужно же и особистам чем-то заниматься. А в принципе, какое им сейчас дело до того, что там пи….нул майор Хлебников.
— Да кто их знает…
— Ну ладно, ладно… Так вот, ни хрена у них так не получится. Это уже видно. И с самого начала было видно.
— Говорили, Лебедь там шороху навёл, вроде бы… Только теперь на него всех собак вешают, хотя ему, я думаю…
— Шороху… шороху и мы здесь можем навести. В раз! А решит это что-нибудь?
— Ну, порядок будет, я думаю.
— Ты так думаешь? Думаешь, порядок будет? У нас в деревне — это где я вырос, имею в виду — у нас в деревне жили два соседа. Мишка и Гришка — как из букваря. Однажды повздорили. Свинья Мишкина потоптала Гришке рассаду. Всё бы ничего, если б не по пьяни дело было. Новую крышу обмывали, Гришкину, вместе только что и постелили. Мишка за свинью обиделся, что сосед её тварью назвал. Ну, слово за слово, … за …, в общем, Михаил полез на крышу сдирать рубероид, тот в дом за ружьём. Жёны их в крик, детвора в крик, люди сбежались, ружьё у него отняли, на огород забросили. А тут уже и Мишка трубой вооружился «— Убью», — и всё тут. Скрутили и его, домой оттащили. Пока тащили, Гриша обратно ружьё подобрал, стал палить по соседскому дому. Стёкла побил, а так ничего, никого не задел. Снова отобрали, унесли. Мишка стал его камнями забрасывать. Тот в ответ — тряпки поджигает и на его сарай бросает. Обошлось, так толком и не добросил, только плетень попалил… Уже вся деревня сбежалась. Короче говоря, весь вечер с ними провозились, кое-как растащили, спать уложили. Гришку в бане верёвками к полке прикрутили, очень уж буянил. Утром пошли проведать — помирить там, за примирение, как водится… сунулись в баню, а Гришка мёртвый, топор поперёк головы, а Мишки нету, в бега ушёл.
— Поймали?
— А? Поймать поймали, не о том речь. Что сказать хочу — если два соседа убить друг дружку вздумали, хрен кто их удержит, даже всей деревней.
— Так то деревня, товарищ майор, а мы армия.
— Армия… В том-то и дело, братец, что армия. Вооружённые, понимаешь ли, силы. Вооружённые. Силы. Вдумайся. Мы ж кто такие? Мы же профессиональные убийцы — это и есть армия. Любая. Вот и получается — поручили профессиональным убийцам такое дело, а потом воют: ой, что вы наделали! — что умели, то и наделали! Думать надо было.
— Тсс, товарищ майор! Солдаты там.
— Ладно, не напрягайся. Давай по последней.
Темно. Темнота добавляет воображению трудолюбия. Да и чем ещё заняться в камере? Внешний мир — три на три. Квадратное окошко под потолком, шершавый бетон, железная дверь и дощатые нары в виде помоста вдоль всей стены. От окна размашистым веером расползлась копоть, на одном из стальных прутьев решётки блестит глубокая царапина — след автоматной пули. Ещё, пожалуй, сырость и мышиный шорох под нарами. Истончён внешний мир до предела — вот и рвётся.
Делается легко.
Пропадает куда-то охочее до человечьих мозгов чудище Армия, замолкает тоскливая тревога. Закрой глаза, чтобы не видеть бетонную темноту, вдохни — и воздух щекочет секретные ворсинки счастья… помнишь эти ветра?
…Весна переходит в лето бурно, с привкусом катастрофы. Южные ветра влетают в Тбилиси. Сухие, горячие мчат по улицам, заплетая пыльные вихри, ломая ветви. Их невидимые порывистые ладони лезут под одежду, обжигают почти сладострастно.
Вай мэ, когда уже утихнет!
Все их ругают, никому они не нужны. Но он их ждёт.
Неперебродившая юность, не нащупавшая нужного слова страсть.
Пульс его делается рваным, стаи звонкокрылых фей носятся под кожей, наполняя его сладким зудом. Усидеть дома невозможно. Обычно, дождавшись вечера, он отправляется в Худадовскую рощу. Роща известна как любимое пристанище заристов. Считается, что эти самые заристы, в основном наркоманы, играют в кости — в за́ри — на желания. Разрешено по их правилам загадывать любое желание, кроме самоубийства. Проигравшему могут загадать, например, завтра в семь вечера в трамвае номер три зарезать того, кто будет сидеть слева на первом сидении. Говорят, такое бывало. Но своими глазами заристов никто не видел, а роща — сразу за школой, шумит, скрипит и качается. Митя добирется до облюбованного местечка, взбегает на холм и раскинув руки, стоит — совсем уже ненормальный, искрящий — над шёлковыми волнами травы. Однажды, вот такой, стоящий на холме — он подумал: «Наверное, когда буду умирать, увижу эту траву». А жизни-то было пятнадцать лет. Чего только не занесёт в нагретую ветром голову!
Город на ветру. Летящий город.
Гремят вывески на магазинах, воробьи жмутся пушистыми комочками в стены. Женщины идут мелко и осторожно, собрав поуже юбки. Есть в этом что-то японское: вцепились в юбку/ женщина и ветер/ наступает лето. Мужчины проходят мимо с легкомысленными ухмылками, будто это из-за них женщины вцепились в юбки. Над крышами — и тут уж все останавливаются, прижимают ладони козырьком — танцует сорванная с бельевой верёвки одёжка. Как весёлое привидение. Незадачливая хозяйка в опасно хлопающем, прилипающем и парусом раздувающемся халате. Стоит, щурится в небо, караулит, когда наконец ветер выронит свою незаконную добычу. А ветер…
— Сидим, значит?
Назойлив внешний мир, вмешивается, с резким скрипом петель входит в камеру.
— Сидим, значит? — говорит капитан Онопко, сунув пальцы под ремень и оглядывая с явным удовольствием бетонный кубик камеры Дов…лись? Ага. Десять суток выхватил? Ну-ну. Лиха беда начало.
Известен он тем, что досконально, до последней гайки знает БМД. Не банально там — вес, вооружение, броня — абсолютно ВСЁ знает. Время от времени он ставит перед собой какого-нибудь бойца (неравнодушен к учившимся в ВУЗах) и выстреливает в него вопросом:
— Скажи-ка, студент, а какой шаг резьбы в стволе пушки БМД?
Вопрошаемый, конечно же, не знает, пытается оправдываться — мол, в Вазиани ведь сплошь БТРы. Тогда капитан Онопко сам отвечает на свой вопрос и вздыхает:
— Так-то, товарищ студент.
Наверное, это любовь. Человек и БМД. Лёд и пламень. Нет повести печальнее на свете! Ведь в проклятой пехотной учебке он обречён любить платонически: и впрямь одни БТРы вокруг.
— Ага. А почему, товарищ Вакула, вы в бушлате?
— Так… холодно ведь.
— Ну, «холодно»! Не положено на гауптвахте в бушлате. Снимай.
На пороге, в конусе контрового света (очень похоже на картину художника Ге) он разворачивается в пол-оборота и отводит руку в сторону и вниз в вопросительном жесте:
— Сколько звеньев в одной гусенице БМД?
Ночью Митя познал совершенно новый, особый холод. Ни один, пережитый ранее, не шёл ни в какое сравнение. Ни усыпанный мурашками холод утренней пробежки, ни затхлый, с запахом земли и портянок, холод палатки, ни холод бешенного осеннего ливня, плюющего в лицо студеной слюной, ни даже металлический, скручивающий ноги как проволоку, холод выстуженного БТРа, — ни один не был холоден по-настоящему. Этот новый тюремный холод, подлый как уголовная «шестёрка», разил исподтишка. Не заплёвывал, не доводил до судороги. Не было никаких предупреждений, никаких предварительных симптомов. Не мокрело в носу, не покалывало кончики пальцев. Сразу, от макушки до пяток, в горле и в кишках — мёрзлый бетон. Ы! — уже не дрожишь, не дёргаешься. Вот он, Холод. Наверняка. Наповал. Насквозь. Наухнарь. Весь ты в его власти. Бежать некуда, согреться негде.