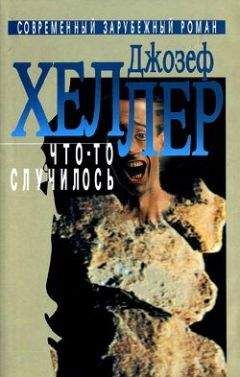– Ничем, – отвечает она, пожимая плечами; она сознает свою несостоятельность, покаянно признается, что еще один день пропал даром. – Была дома. Ездила за покупками. Отдыхала. Спала.
– Кто-нибудь заходил?
– Нет.
Это хорошо (если она говорит правду), это значит, что пила она только вино и, возможно, понемножку: когда она выпьет много, ее мутит. Думаю, она все же говорит правду, по-моему, она еще не научилась мне врать. (Жена моя не умеет флиртовать и не умеет мне врать.) Когда она хочет что-то скрыть, она помалкивает и надеется, что я не стану задавать вопросы. (Если я спрошу, она непременно скажет. Врать она не любит.) Я иду ей навстречу: когда чувствую, что она хочет что-то сохранить в тайне, не лезу с вопросами. Стараюсь держаться подальше от того, что, как мне кажется, она старается утаить. Подозреваю, что и она со мной ведет себя так же. (Подозреваю, что она знает обо мне куда больше, чем показывает.) Поэтому беседы наши по большей части ни о чем и обычно весьма сдержанны.
– До скорого, – говорю я и ухожу со своим стаканом. – Хочу просмотреть почту.
Она кивает. Проходя мимо, я легонько хлопаю ее по заду. Она довольна, благодарна и с похотливым, пьяным восторгом ответно прижимается к моей руке.
– Попозже? – спрашивает она. – Надеюсь, ты в настроении.
– Ты ж меня знаешь, – смеюсь я в ответ.
Мне грустно видеть ее такой. (Прежде она такой не была.) Пусть я больше не люблю ее, но я знаю ее уже так давно, и мне совсем не хочется сейчас кричать olé.
Мне грустно, что жена моя теперь пьет днем, а пожалуй, разок-другой прикладывается к бутылке и по утрам. Я стараюсь ничего не говорить ей по этому поводу. Это было бы для нее унизительно, и не хочется мне, чтоб она боялась, что я стану изводить ее еще и этим. Обычно она как бы невзначай сообщает мне, что днем немного выпила – обедала со своей сестрой или с чьей-нибудь женой, или ездила покупать материю и в городе выпила коктейль или двойное виски, или, вот как сегодня, добавляла вино в какое-нибудь кушанье. Иной раз ей хочется сказать мне это, но она так долго выжидает, что уже не говорит, и тогда я ощущаю в ней внутреннюю дрожь, она гадает, заметил ли я и стану ли ее отчитывать. (Жена боится меня; не слишком это приятно, зато так оно проще.) Временами мне ее жаль.
Она никогда не бывала в подпитии днем (а вот на вечерах и в гостях – бывала, и уж тогда веселилась, хотя, когда мы сами принимаем гостей, она себе этого не позволяет. Жена моя превосходная хозяйка дома), и никто из детей ни разу не обмолвился о том, что она днем прикладывается дома к бутылке, так что, вероятно, она не дает им это заметить. Но прежде она вообще не пила, прежде она не флиртовала. (И не сквернословила.) Она , чтобы мы все тоже ходили. (Мы не хотим. Изредка, когда я решаю, что она вполне заслужила, чтобы мы ей доставили удовольствие, а нам оно не так уж дорого обойдется, мы ей уступаем. Ей не слишком нравится наш теперешний священник, и мне тоже.)
Жена понемногу приучается вставлять в свою речь ругательства (примерно так же смущаясь, пожилые женщины начинают заниматься живописью или посещать лекции для взрослых по психологии, истории искусств или Жан Полю Сартру). Это ей тоже не очень удается. Во всякие «сволочь он!», «катись ко всем чертям!» она вкладывает слишком много чувства, хотя «дерьмо» произносит уже вполне веско. Пресыщенное равнодушие, с каким мужчины и женщины в близких нам кругах относятся к непристойностям, у нее выглядит не столь убедительным. Моя пятнадцатилетняя дочь уже управляется с ругательствами куда лучше жены. Дочь сыплет ими в нашем присутствии, желая нас поразить; нередко она обращает их прямо на нас (особенно на жену) – испытывает, далеко ли ей позволят зайти. (Я не позволяю ей заходить далеко.) И мой мальчик, сдается мне, набирается мужества, чтобы на пробу щегольнуть дома парочкой ругательств. (Он толком не знает, что значит слово «трахаться», хотя уверен, что оно срамное.)
Мне больно вспоминать, какой жена была прежде, знать, какой она была и хотела бы остаться, и видеть, что происходит с ней теперь, – так бывает больно смотреть, когда разрушается всякий человек, который был мне когда-то дорог (или хоть приятен), и даже случайный знакомый, и даже кто-то чужой. (Вид чьих-то судорог меня угнетает – и если у кого-нибудь лицевой паралич или парализована нога, мне до того противно, что я цепенею. Мне хочется отвернуться. Меня возмущают слепцы – когда встречаю их на улице, я злюсь на них за их слепоту и за то, что им опасно ходить по улице, и отчаянно озираюсь по сторонам: может быть, кто-то другой подоспеет им на помощь, и мне не придется вести их через перекресток или мимо неожиданного препятствия, что возникло на тротуаре и повергло их в столь жалкую растерянность. Я не позволяю себе приобщиться к такому человеческому несчастью, отказываюсь его признавать, заталкиваю его в подсознание и изо всех сил захлопываю крышку. Если уж иначе нельзя, пускай врывается в ночные кошмары. Все равно, проснувшись, я их тотчас забываю.) Марта, машинистка, та молоденькая некрасивая девушка из нашего отдела, у которой нечистая кожа и которая сходит с ума, она совсем мне чужая, и она была уже порядком не в себе, когда Управление персоналом прислало ее к нам (чтобы она окончательно сошла с ума), я за нее не в ответе, я ее не знаю, не знаю ни ее мать, которая снова вышла замуж, и не хочет брать ее к себе в Айову, ни отца (если у нее еще жив отец), ни кого другого среди множества людей, живущих на свете, кто был бы ей близок; и однако, дай только я себе волю, то, что она сходит с ума, разобьет мне сердце. Я не говорю ей, каково мне это (или каково могло бы быть). Но разговариваю с ней всегда тепло. По моему поведению не разобрать, что я на самом деле чувствую.
Я стараюсь не показать ей, что ее состояние меня хоть сколько-нибудь волнует (понимай она, что я понимаю, она еще, пожалуй, обратится ко мне за помощью), и стараюсь не позволять себе волноваться. Стараюсь не дать ей заметить, что я понимаю. (Возможно, она еще и сама не понимает, что с ней происходит.) Наверно, расстроилась бы, если бы знала: все вокруг понимают, что она сходит с ума.
Итак, движимый все той же грубой смесью сочувствия и эгоизма, я ничего не говорю Марте – и ничего не говорю жене о том, что она выпивает, и флиртует, и пересыпает свою речь ругательствами, как ничего не говорил матери, когда у нее случился первый удар, как ничего не говорю никому из тех, кого знаю, когда замечаю в них первые признаки необратимого увядания, надвигающейся дряхлости и смерти. (Этих людей я тут же сбрасываю со счетов. Я списываю их в свой архив задолго до того, как они умрут, при первых признаках приближающегося конца.) Я никому не говорю ничего неприятного, если понимаю, что тут уже ничем не поможешь. Я ничего не сказал матери, когда у нее случился инсульт, хотя был при этом и в конце концов именно мне пришлось вызывать врача. Я не хотел, чтобы она понимала, что у нее удар; а когда она поняла, не хотел, чтобы понимала, что я понимаю.
Я притворялся, будто ничего не заметил, когда навестил ее (она жила одна в квартире), как навещал каждую неделю, и вдруг язык перестал ей повиноваться, у нее вырывались лишь все одни и те же спотыкающиеся, гортанные, расщепленные слоги. Я не выдал своего удивления. скрыл тревогу. В тот первый раз она замолчала с видом озадаченным, даже, пожалуй, капризным, виновато улыбнулась и снова попробовала закончить начатую фразу. Опять у нее ничего не получилось. И опять не получилось. И опять. А потом она уже и не очень старалась, словно наперед знала, что это напрасно, что уже слишком поздно. В остальном она чувствовала себя неплохо. Но когда я предложил вызвать врача, кивнула; я стал звонить, и бедняжка вяло покорилась – глаза ее увлажнились, и она смиренно, растерянно пожала плечами. (Ей было страшно. И стыдно.)
Доктор потом терпеливо объяснял, что это, возможно, был не тромб, а всего лишь спазм очень мелкого сосуда мозга (ударов вообще не бывает, сказал он; бывают только кровоизлияния, тромбы и спазмы). Если бы пострадал более крупный сосуд, у нее вдобавок был бы паралич одной стороны, а пожалуй, и потеря памяти. Но говорить она уже так никогда и не смогла, хотя, забывшись, пыталась (скорее по привычке, а не в надежде, что ей это наконец удастся), а затем случился второй, но далеко не последний спазм (или удар), и потом она уже и не пыталась. Я навещал ее в доме для престарелых (ей там было тошно); я разговаривал, а она слушала и жестами показывала, когда хотела, чтобы я ей что-то подал, или вставала со стула или с постели и брала сама (пока еще могла вставать). Иногда она коротко писала на клочке бумаги, чего хочет. Сидя у ее постели во время своих посещений, я рассказывал все, что мог, о жене, детях и службе, а потом и всякую всячину, которая, на мой взгляд, должна была быть ей приятна, и никогда не поминал ни об ударе, ни о других немощах, которые неотвратимо подкрадывались к ней и одолевали ее (особенно артрит, и все усиливалась физическая и умственная вялость, которая в конце концов перешла в болезненную апатию). Она так и не узнала, что Дерек родился неполноценным, хотя о его рождении знала. Я всегда говорил ей, что он вполне здоров. (Я всегда и про всех говорил ей, что они вполне здоровы.) Мы и сами узнали про болезнь Дерека только через несколько лет, а тогда было уже слишком поздно: он уже существовал, все уже произошло. (Теперь я рад бы избавиться от него, хотя сказать об этом вслух не решусь. Подозреваю, что мои чувства разделяет вся наша семья. Вероятно, только мой мальчик чувствует себя иначе: он, пожалуй, рассудил, что если бы мы отделались от Дерека, так можем отделаться и от него, и уже тревожится – вдруг мы втайне это замышляем. Мой мальчик следит за всем, что касается нашего отношения к Дереку, и все мотает на ус, словно хочет понять, как мы в конце концов от Дерека отделаемся; он чувствует, рано или поздно нам, вероятно, этого не миновать.)