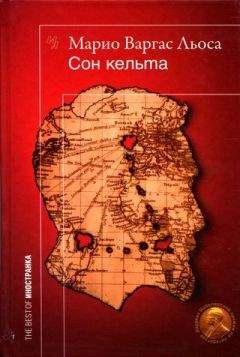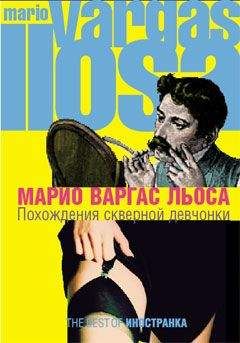Сейчас, двадцать восемь лет спустя, Антонио вспомнил его резкий высокий голос и неожиданную сердечность, сдобренную иронией. И пронзительно-режущий взгляд, которого он, такой гордый, не смог выдержать.
— Война окончена. Я покончил с каудильизмом, местным самовластием, включая и тот, что царил на землях семейства де-ла-Маса. Хватит стрелять. Надо восстанавливать страну, она разваливается на куски. Мне рядом нужны лучшие. Ты — парень горячий и умеешь воевать, так? Вот и хорошо. Давай работать со мной. У тебя будет возможность пострелять. Я тебе предлагаю место, куда назначаются самые доверенные люди, — адъютант в моей личной охране. И если в один прекрасный день я тебя разочарую, можешь пустить в меня пулю.
— Но я не военный, — пробормотал юный де-ла-Маса.
— С этой минуты — военный, — сказал Трухильо. — Лейтенант Антонио де-ла-Маса.
Так он уступил первый раз, так первый раз потерпел поражение от руки этого непревзойденного мастера манипулировать наивными простаками, глупцами и мерзавцами, хитроумного умельца играть на людском тщеславии, алчности и недомыслии. Сколько лет Трухильо находился в каком-нибудь метре от него? Как теперь, последние два года, от Амадито. От скольких трагедий мог бы избавить ты страну и семью де-ла-Маса, если бы сделал тогда то, что собираешься сделать сейчас. Наверняка и Тавито был бы жив.
Он слышал, как у него за спиною разговаривали Амадито и Турок, время от времени в разговор вступал и Имберт. Их не должно удивлять, что Антонио молчит; он всегда был немногословен, со временем стал скуп на слова, а после смерти Тавито и почти совсем замолчал; эта беда, он знал, изменила его невозвратно, он стал человеком одной идеи: убить Козла.
— Хуан Томас, должно быть, нервничает еще больше нас, — услышал он Турка. — Хуже нет, чем ждать. Так приедет он или нет?
— В любой момент может приехать, — чуть ли не взмолился лейтенант Гарсиа Герреро. — Поверьте же мне.
Да, генерал Хуан Томас Диас, должно быть, сейчас у себя дома, в Гаскуэ, нервничает, грызет ногти, мучаясь вопросом: произошло ли то, что они с Антонио так долго обдумывали, лелеяли в мечтах и, ни на минуту не забывая об этом, хранили в тайне ровно четыре года и четыре месяца, другими словами, с того самого дня, когда после встречи с Трухильо, только что похоронив Тавито, Антонио вскочил в машину и на скорости 120 километров помчался к Хуану Томасу в его имение в Ла-Веге.
— Ради двадцатилетней дружбы, связывающей нас, помоги мне, Хуан Томас. Я должен убить его! Я должен отомстить за Тавито!
Генерал ладонью зажал ему рот. Огляделся вокруг, давая понять, что прислуга может услышать. Потом отвел в стойла, где обычно они стреляли по мишеням.
— Мы сделаем это вместе, Антонио. Отомстим за Тавито и за всех нас, доминиканцев, которые мучаются стыдом.
Антонио и Хуан Томас близко сдружились в ту пору, когда де-ла-Маса стал адъютантом Благодетеля. И это было единственно хорошее за все два года, которые он, сперва — лейтенантом, а затем — капитаном, прожил бок о бок с Генералиссимусом, сопровождая его в поездках по стране, на выездах в Дом правительства, в Конгресс, на ипподром, на приемы и спектакли, на политические митинги и любовные свидания, на встречи, на тайные переговоры с партнерами и дружками, на собрания открытые, закрытые и сверхсекретные. Он не стал убежденным трухилистом, каким был в ту пору Хуан Томас Диас, но тем не менее, несмотря на то что в душе у него, как и у всех орасистов, затаилось недоброе чувство к тому, кто убрал с политической арены президента Орасио Васкеса, он не мог не попасть под магнетическое влияние, которое излучал этот не знавший устали человек: он был способен работать двадцать часов кряду и, поспав два или три часа, с рассветом начать новый день свежим, как юноша. Народная молва утверждала, что этот человек никогда не потел, никогда не спал, никогда ни одной морщинки не было на его мундире, сюртуке или верхнем платье, и в те годы, когда Антонио находился в рядах его железной гвардии, он на самом деле преобразовывал страну. Преобразовывал, строя дороги, мосты и фабрики, но еще и сосредотачивая в своих руках такую безграничную политическую, военную, государственную, социальную и экономическую власть, что все диктаторы, терзавшие Доминиканскую Республику на протяжении ее истории, включая Улисеса Эро, Лилиса, который прежде выглядел таким безжалостным, стали казаться в сравнении с ним жалкими пигмеями.
Это уважение и наваждение, которое пережил Антонио, никогда не выливалось у него в восхищение или и угодливую, унизительную любовь, которые питали к своему вождю прочие трухилисты. И даже Хуан Томас, с 1957 года вместе с ним искавший способ освободить Доминиканскую Республику от угнетавшего и изничтожавшего ее тирана, в сороковые годы был фанатичным приверженцем Благодетеля и мог пойти на преступление ради этого человека, которого почитал спасителем Родины, государственным деятелем, вернувшим доминиканцам таможни, прежде находившиеся в руках у янки, разрешил с Соединенными Штатами проблему внешнего долга, получив от Конгресса почетное звание Реставратора финансовой независимости, создал современные и профессиональные вооруженные силы, экипированные лучше всех на Карибах. В те годы Антонио не решился бы плохо говорить о Трухильо в присутствии Хуана Томаса Диаса. Тот поднимался по армейской лестнице и дослужился до генерала с тремя звездами, получив под начало военный округ Ла-Вега, где его и застало вторжение 14 июня 1959 года, после чего он попал в немилость. К тому моменту у Хуана Томаса уже не было иллюзий насчет режима. В кругу близких людей, когда он был уверен, что чужие не слышат — на охоте в Моке или Ла-Веге, за воскресным обедом в кругу семьи, — он признавался Антонио, что его мучает стыд — за убийства, за исчезновения людей, за пытки, за скудость жизни и за то, что миллионы доминиканцев вручили одному-единственному человеку свое тело, душу и совесть.
Антонио де-ла-Маса никогда не был трухилистом по зову сердца. Ни служа адъютантом, ни потом, когда попросил у Трухильо разрешения оставить военную службу и стал работать для него как гражданский, управляющим на лесопильне, принадлежавшей семье Трухильо, в Рестаурасьоне. Он сжал зубы от отвращения — не удалось ему избежать работы на Хозяина. На военной ли службе, на гражданской ли, но двадцать с лишним лет он приумножал богатство и власть Благодетеля и Отца Новой Родины. Жизнь прожита зря. Не сумел он уйти от ловушек, которые ему расставлял Трухильо. Ненавидя его всей душой, он продолжал служить ему, даже после смерти Тавито. Вот Турок и сказал оскорбительно: «Я бы не продал брата за четыре сребреника». Он не продавал Тавито. Антонио постарался, чтобы не заметили, как он сглотнул горький комок. А что он мог сделать? Позволить calie Джонни Аббеса убить себя и умереть со спокойной совестью? Нет, Антонио нужна была не спокойная совесть. Ему нужно было отомстить — и за себя, и за Тавито. А чтобы сделать это, ему пришлось четыре года глотать все дерьмо мира и даже услышать от одного из самых своих любимых друзей эти слова, которые, он был уверен, очень многие повторяли у него за спиной.
Он не продавал Тавито. Тавито был его младшим братом и самым близким другом. Наивный, по-ребячески невинный, он — в отличие от Антонио — действительно был убежденным трухилистом, одним из тех, кто считал Хозяина существом высшего порядка. Они часто спорили, Антонио раздражало, что младший брат без конца повторяет, как припев, что Трухильо для Республики — дар небесный. Правда, Генералиссимус выказывал Тавито свое расположение. Его приказом Тавито приняли в авиацию, и он научился летать — мечта с детских лет, -а потом взяли пилотом в «Доминикана де Авиасьон», и он стал часто летать в Майями, от чего был в восторге, потому что там он имел блондинок, сколько хотел. До того Тавито был в Лондоне военным советником. И однажды во время пьяной потасовки застрелил доминиканского консула Луиса Бернардино. Трухильо спас Тавито от тюрьмы, защитив дипломатической неприкосновенностью, и велел трибуналу Сьюдад-Трухильо, где состоялся суд, оправдать его. Да, Тавито имел все основания быть благодарным Трухильо и, как он однажды сказал Антонио, «быть готовым отдать за Хозяина жизнь и сделать все, что он ему прикажет». Пророческая фраза, соnо [Испанское ругательство.].
«Вот и отдал ты жизнь за него», — подумал Антонио, затягиваясь сигаретой. С первого момента Антонио почувствовал, что дело, в которое Тавито оказался замешанным в 1956 году, пахнет дурно. Брат пришел к нему рассказать об этом, потому что Тавито всегда ему все рассказывал. И об этом — тоже, хотя дело выглядело мутным, как многие другие, которыми изобиловала доминиканская история с тех пор, как к власти пришел Трухильо. Но простак Тавито, вместо того чтобы забеспокоиться, почуять, чем это пахнет, и испугаться миссии, которую на него возлагали — подобрать в Монтекристи на маленькой авиетке накачанного наркотиками человека с закрытым лицом, которого сняли с самолета, прибывшего из Соединенных Штатов, и переправить его в Сан-Кристобаль, в Головное имение, — страшно обрадовался, приняв это за знак особого доверия к нему со стороны Генералиссимуса. И даже когда пресса подняла шум и Белый дом начал давить на доминиканское правительство, чтобы оно оказало содействие в расследовании похищения в Нью-Йорке испанского профессора, баска Хесуса де Галиндеса, Тавито не выказал никакого беспокойства.