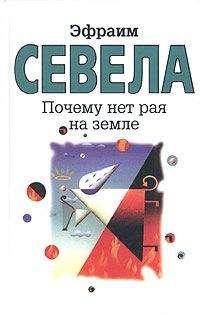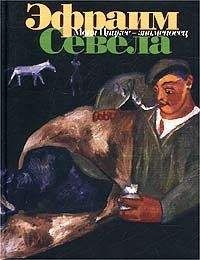Я вначале и не заметил, что еще кто-то увязался за нами. Из подъезда какого-то дома вынырнула третья фигурка, закутанная в тряпки, держась на почтительном от нас расстоянии, продвигалась, согнувшись чуть не пополам против ветра и стараясь не терять нас из виду.
Третьего я заметил уже на фуникулере. Чтобы подняться из центра Каунаса на Зеленую гору, обычно садятся в вагончик, который увлекается по рельсам вверх толстым металлическим канатом. Один вагончик ползет вверх, а второй ему навстречу, вниз. Фуникулер работает до полуночи. Потом вагончики замирают до утра. Один — внизу, другой — на самом верху, на Зеленой горе. И запоздалым путникам приходится топать пешком по бесконечной лестнице с деревянными ступенями, задыхаясь от усталости и останавливаясь отдышаться на промежуточных площадках. Ступеней двести или триста. Никогда не считал. Хоть взбирался по ним часто — моя работа в ресторане кончалась далеко за полночь.
Лестница с деревянными перилами зигзагом вилась по почти отвесному склону холма, пустынному, поросшему кустарником, голому в это время года. Мы втроем поднимались со ступени на ступень, и, когда добрались до самого верха, я оглянулся и увидел внизу крошечную фигурку, ступившую на первый марш лестницы. Это был не взрослый, а ребенок. Даже на таком расстоянии легко угадывался возраст. Первая мысль, пришедшая мне в голову: кто это умудрился выпустить из дома ребенка в такой поздний час? И в такой холод? Да еще одного, без провожатого?
Но долго раздумывать не было времени. Со мной были двое полузамерзших детей, и я теперь чувствовал ответственность за них. На всех детей моей жалости все равно не хватит. И я тут же выбросил из головы маленькую фигурку внизу лестницы.
Во дворе нас встретила заливистым лаем Сильва. Новая собака, которую я завел и назвал тем же именем. Дети, которых я привел, подозрительно пахли, и я долго не мог успокоить собаку, объясняя ей, что это никакие не преступники и не воришки, а несчастные сиротки, каким совсем недавно был и я. Не знаю, поняла ли Сильва все из того, что я ей нашептывал, поглаживая ее лобастую голову, но обе девчонки после этих слов окончательно успокоились, и в их глазах заискивающий и тревожный взгляд вечно гонимых понемногу растаял и исчез.
Собака все еще нервно поскуливала на цепи, когда мы вошли в дом. Я зажег свет в комнатах. Сначала в передней, потом в столовой, а затем уже в гостиной.
Дети нерешительно стояли на пороге прихожей, не решаясь ступить в своей мокрой и рваной обуви на начищенный паркет. Они щурились на хрустальную люстру, отсвечивавшую множеством огоньков, разглядывали во все глаза старинную мебель красного дерева, фарфор за стеклом буфета, картины в резных рамах на стенах, словно видели такое впервые. А может быть, их память восстановила, узнала обстановку их раннего детства, при родителях, когда для них такая, а возможно, и лучшая, квартира была привычным жильем, а вот для меня в ту пору такое казалось диковинкой. Мы поменялись местами. Только и всего. Извечный суровый итог войны: горе побежденному.
Чтобы покончить с их смущением, я предложил обеим разуться и оставить все в прихожей. А сам поднялся наверх, в спальню, поискать какие-нибудь домашние тапочки или, на худой конец, шерстяные носки, чтобы они не ходили по дому босиком. Когда я спускался в прихожую, то невольно застыл на верхних ступенях лестницы.
Девочки поняли мое предложение по-своему. Пока я искал, что им дать обуться, они быстренько сбросили с себя все тряпье, мокрое и рваное, и стояли на паркете гостиной совершенно голыми. Белея бледной нечистой кожей, сквозь которую выпирали ребра на груди и ключицы под тоненькими шейками. У обеих были худые голенастые, неуклюжие ноги, какие бывают у девчонок в переходном возрасте. И никаких признаков грудей. Плоско. Лишь ребра проступают. У старшей ниже пупка курчавились светлые волосики, у младшей — лишь золотистый пушок на лобке. А их русые головки были мокрыми от стаявшего снега, и волосы жалкими жгутиками липли ко лбу и вокруг ушей.
Они стояли, заложив руки за спины и расставив ноги. Смотрели на меня, не стесняясь, запрокинув головы — привычно демонстрировали товар лицом. Как это, вероятно, должны делать, по их мнению, те, что торгуют своим телом.
Я с трудом сдержался, чтобы не закричать на них, не обругать самыми последними словами.
— Очень хорошо, что вы разделись, — как можно спокойней сказал я. — Умницы. Сейчас я вас искупаю. Помоетесь горячей водой с мылом. А когда будем головы мыть, обязательно зажмурьте глазки, а то мыло будет щипаться. Вот только согрею воды.
Они кивали. И незаметно поменяли позы. Сдвинули ноги, вынули руки из-за спины, и старшая, Ханнелоре. неуловимым движением скрестила ладони пониже живота, как это делают обычно женщины, когда их застают голыми.
— А можно сначала что-нибудь скушать? — робко спросила младшая, Лизелотте.
— Конечно! — всплеснул я руками, точь-в-точь как это делала моя мать, когда приходила в возбуждение. — Как это я забыл, что вы голодны и вас надо в первую очередь накормить. Марш за мной!
Я ринулся на кухню. Девочки зашлепали босыми ногами за мной. На кухне царил привычный беспорядок: грязная посуда громоздилась в раковине. На столе было полно хлебных крошек и объедков. На полу валялось жгутом грязное кухонное полотенце.
В настенном шкафчике (холодильников в ту пору в Каунасе не было и в помине) я нашел полбуханки засохшего крошащегося хлеба, банку рыбных консервов «Лещ в томате» и полкруга ветчинной колбасы.
У девчонок при виде такого богатства загорелись глаза. По-прежнему нагие, они уселись на табуреты возле кухонного столика, куда я вывалил в беспорядке все съестные припасы, и принялись есть, без ножей и вилок, разрывая колбасу и хлеб руками. Консервы они ели, макая куски хлеба в открытую банку с густым соусом и вылавливая оттуда пальцами рыбную мякоть.
В ванной я включил газ, чтобы согреть достаточно воды для двоих, и, пока вода грелась, рылся в шкафу, подыскивая среди своих пижам и рубашек хоть что-нибудь, что пришлось бы впору моим ночным гостьям.
На дворе захлебывалась лаем Сильва и бегала по проводу, гремя цепью. Кто-то чужой беспокоил собаку. И беспокоил уже давно. Кто-то бродил вокруг нашего дома и не уходил. Сильва — умная собака. Она зря лаять не станет.
Я выглянул на кухню. Девочки доели, консервы, а кусок колбасы и ломоть хлеба отложили в сторону и даже прикрыли обрывком газетного листа.
— Для кого вы это оставили? — удивился я.
— Для Генриха, — сказала Ханнелоре и улыбнулась мне, словно извиняясь за то, что они без спросу сами распорядились моими съестными припасами.
— А кто такой Генрих?
— Наш брат, — хором ответили девочки и обернулись к окну, за которым все не унималась Сильва.
— Ваш брат ждет на улице?
— Да. Он шел за нами всю дорогу и теперь ждет, чтобы мы вынесли ему поесть.
— Немедленно зовите его в дом! — всполошился я, представив замерзающего на улице мальчика. — Что же вы мне раньше не сказали?
— А мы боялись, что вы нас выгоните… к нему. А он… тоже голодный.
— Так. Кончили трепаться. Зовите его!
Но я тут же понял нелепость своего приказа. Обе девочки были голыми. Куда им лезть на улицу!
— Как его звать? — переспросил я и метнулся в прихожую. Распахнул дверь на улицу. Сильва, завидев меня, залаяла еще громче, кидаясь на натянутой цепи к забору.
За забором, даже не на тротуаре, а посреди пустынной заснеженной улицы, скорчилась маленькая фигурка, устремив лицо к освещенным окнам моего дома.
Я схватил Сильву за ошейник и оттащил от забора. Она перестала лаять, лишь злобно и недоумевающе скулила.
— Генрих! — позвал я. — Иди в дом! Не бойся! Я держу собаку. Твои сестры ждут тебя!
Генрих был самым старшим в этой троице, на год старше Ханнелоре. Но он совсем не походил на своих сестер. Они были светловолосыми, круглолицыми, а он — брюнет, с карими глазами, худым втянутым лицом и не коротким, а довольно длинным носом, отчего сильно смахивал на еврея. И первое, о чем я подумал, разглядывая его, это то, что в те времена, когда я пробирался, держась за руку ксендза, через весь Каунас до Зеленой горы, очутись Генрих вместе со мной — еще неизвестно, кто бы из нас вызвал большее подозрение у литовской полиции, и, уж без всякого сомнения, нас бы загребли обоих и отвезли в гетто.
Девочки выразили бурную радость, когда я ввел Генриха в дом, и тут же сунули ему кусок колбасы с хлебом, и он стал жевать, стоя на пороге кухни, и вокруг его рваных башмаков расползалась по паркету лужа. Он не выразил никакого удивления, застав своих сестер голыми в чужом доме в присутствии взрослого мужчины.
Когда и он утолил немного голод, доев все, что осталось на столе, я велел ему тоже раздеться, раз уж он здесь, и помыться горячей водой и с мылом.
Я думал, он будет мыться после сестер, но он разделся тут же и тоже догола, совсем не стесняясь девочек. Так же, как они не стеснялись его.