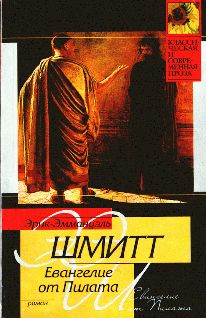Я вместе с Бурром спустился в караульную. Мы зажгли факелы, потому что утро разгоралось с ленцой, потом привели двух евреев, а вернее, их подтащили ко мне, ибо они так напились, что даже не соображали, что находились перед прокуратором.
— Откуда у вас эти деньги?
— Кто ты?
— Друг.
— У тебя есть выпить?
— Кто дал вам эти деньги?
— …
— Зачем?
— …
— Вы мне ответите, клянусь Юпитером!
— У тебя правда нет выпивки?
Мы с Бурром обменялись удивленным взглядом: они были наполнены вином, как амфоры. Из них нельзя было ничего вытянуть, кроме пота с запахом кислятины.
Я велел дать им кувшин с вином. Они набросились на питье и осушили кувшин с жадностью верблюдов после долгого странствия по пустыне.
Я машинально подбрасывал в руке кошельки с деньгами, как вдруг меня буквально озарило. Тридцать сребреников! Это число о чем-то мне говорило… Ну да! Такова была цена любого предательства, выдачи преступника, доноса. Эти деньги вносили свой распорядок в жизнь Иерусалима. Несколько дней назад мои люди обнаружили такие же деньги на теле висельника, которого вынули из петли. То был Иегуда, казначей Иешуа, продавший Кайафе своего учителя за эти жалкие гроши.
Я приблизился к пьяным стражникам:
— Вам заплатил Кайафа? Хотите еще выпить? Кайафа, не так ли?
Оба молча кивнули. Я взял кошельки с деньгами и протянул им:
— Берите. Кайафа дает вам еще по тридцать сребреников, чтобы вы мне все рассказали.
Стражники качались от радости. Они даже не сообразили, что я возвращаю их деньги.
— Итак, говорите.
— Дело в том, что мы ничего не знаем.
— Вы издеваетесь надо мной?
— Нет, господин, мы ничего не видели. Мы спали. Утром нас разбудили женщины, а потом попросили открыть могилу. Когда они обнаружили, что склеп пуст, они принялись кричать, повторять, что свершилось чудо, что могила сама открылась и сама закрылась, а галилеянина забрал с собой ангел Гавриил. Они твердо верили в это. Для нас пробуждение было шоком. И когда прибыл Кайафа — задолго до римлян, господин, — мы предпочли повторить их слова. Мы поклялись, что собственными глазами видели ангела Гавриила с галилеянином. Это было не так глупо, как если бы мы признались, что ничего не видели, поскольку прохрапели всю ночь, вместо того чтобы сторожить. Но мы, наверное, совершили промах, потому что Кайафа впал в такой гнев, что у него едва не лопнули жилы на шее. Он кричал, что ему известно то, о чем говорят, велел нам молчать и никому не рассказывать про ангела Гавриила. В противном случае пообещал, что нас побьют камнями. Мы дрожали от страха, ведь мы знаем, если первосвященник предрекает кару, он всегда держит свое слово. Потом он успокоился, дал нам денег и сказал, что говорить. А вернее, то, о чем говорить нельзя.
— Словом, Кайафа, сам того не подозревая, заплатил вам за то, чтобы вы говорили правду.
— Ну да.
— А правда в том, что вы ничего не видели?
— Ничего, хозяин.
Я отдал им их деньги. Эти тупицы ушли, распевая песни, уверенные, что теперь имеют по шестьдесят сребреников на брата…
Я удалился в зал совета, чтобы поразмыслить спокойно.
Еще с воскресенья меня беспокоило отсутствие одного человека. Не трупа, а Кайафы. Почему первосвященник не явился ко мне немедленно? Если он тоже искал труп, если был более меня заинтересован в том, чтобы это исчезновение не внесло никакого религиозного хаоса, почему он не предложил мне объединить наши усилия и продолжить поиски вместе? Подобная сдержанность Кайафы озадачила меня. Он обязан мне назначением главой синедриона. Он осыпает меня подарками, чтобы сохранить мое доброе расположение к себе. Куда большими, чем его свекр Анна, предыдущий первосвященник, которого пришлось низложить. Он понимает своё положение и активно сотрудничает с Римом. В деле Иешуа, будучи искусным политиком, он боится и колдуна, и моей реакции. Он опасается, что популярность Иешуа обеспокоит меня и заставит ужесточить свою власть. Если сам он боится религиозного раскола, то его волнует и то, что я могу столкнуться с бунтом. Во время процесса он ясно сказал, что желает обеспечить общественный порядок: «Лучше пусть умрет один человек за весь народ, чем погибнет вся нация».
Почему Кайафа затворился в Храме, не ища моей помощи и не предлагая своей с момента, когда был вскрыт склеп?
Он проводил параллельное расследование. И действовал быстрее. Он обогнал меня у могилы, у Иосифа из Аримафеи… Почему он действовал в одиночку? И испытывал больший гнев, чем я? Почему он не прибежал ко мне, он, такой логичный, такой осторожный в своих поступках, он, кто предвидел все, он, кто велел поставить охрану у могилы Иешуа, чтобы не возник посмертный культ? Кайафа в столь серьезный час отказывался от помощи единственного и привычного союзника! Что бы это значило?
Я подошел к окну и застыл, созерцая Иерусалим. Вдали виднелись белые ступени театра, и сердце мое заныло, пораженное отравленной стрелой тоски. Когда я смотрел на этот пустынный одеон, который так редко использовался и который евреи не любили, несмотря на все мои старания, на труппы и прекрасные пьесы, которые я привез сюда, то с болью думал о Риме и сожалел, что согласился приехать сюда. Прищурившись, я разглядел белую тогу, которая двигалась на сцене, и узнал Марцелла, нашего вчерашнего гостя, который потрясал руками перед пустыми каменными скамьями. Наверное, декламировал одну из своих поэм, проверял силу слова, динамичность фразы. Быть может, он пытался сочинить трагедию?
И тут меня осенило: Кайафа притворялся! Его поиски были спектаклем! Он прекрасно знал, где покоится труп, поскольку принял все предосторожности и скрыл его!
Почему я не подумал об этом раньше? Кайафа все предусмотрел. План был прост. Он ставит у могилы колдуна свою стражу, но одновременно подсыпает им в питье снотворное. Охрана засыпает. Появляются другие стражники, откатывают камень, забирают покойника, закрывают склеп. Две предосторожности лучше одной. Кайафа прячет труп в другом месте, чтобы предотвратить появление посмертного культа. Но не все идет по плану. Близкие к Иешуа женщины открывают могилу, обнаруживают исчезновение трупа и начинают бредить, говоря об ангеле Гаврииле. Пристыженные охранники повторяют их глупости. Разъяренный Кайафа затыкает глотки всем, всем платит. Но слух запущен… Новость доходит до меня… Я приступаю к поискам. Об этом узнает Кайафа. Чтобы подозрение не пало на него, он делает вид, что тоже занят поисками. Его обыск у Иосифа из Аримафеи — спектакль, предназначенный для меня, чистая дымовая завеса.
Я с облегчением вздохнул. Дело вскоре закончится. Кайафа через некоторое время вернет труп. Быть может, для вящей убедительности сделает так, чтобы покойника обнаружили мои люди… И все быстро вернется на круги своя. Кайафа — отличный стратег, он постарается соблюсти необходимые сроки.
Я почти смеялся. Я был доволен, что у меня в партнерах был Кайафа, хитрец, энергичный человек, жаждущий мира, мира, необходимого в равной степени и ему, и мне. Я с облегчением налил себе чашу вина, поднял ее и, обращаясь к отсутствующему первосвященнику, с улыбкой пробормотал:
— Пью за твое здоровье, Кайафа. Сегодня утром лев благодарит лисицу.
И в это мгновение я услышал гул голосов за дверью. Створки их распахнулись от сильного удара.
Появился Кайафа, вслед за которым ворвались мои часовые с копьями наперевес.
Разъяренный первосвященник, увидев меня, застыл на месте. Он ткнул в меня перстом и в отчаянии прокричал:
— Иешуа! Он объявился.
Я расхохотался. Я никогда не думал, что у евреев столь силен вкус к театральности.
— Конечно, он объявился. Я ждал этого, Кайафа. Однако думал, что у тебя достанет деликатности позволить моим людям обнаружить место, где ты его спрятал.
Он посмотрел на меня так, словно я изъяснялся на птичьем языке. Он ничего не понимал.
— Пилат, ты не расслышал, что я сказал. Иешуа объявился! Живой!
— Живой?
— Живой!
Я смотрел на этого высокого человека, казавшегося сейчас таким уязвимым, что совсем не походило на него. Его почти бесцветные глаза были выпучены сильнее, чем обычно. Он выглядел искренним, хуже того — удивленным. Кайафа не размахивал руками и не кривлялся, как обычно делают лжецы, пытаясь убедить в своей правдивости. Он выглядел больным человеком.
— Клянусь тебе, Пилат, Тем-чье-имя-неведомо, что Иисус восстал из мертвых. Он говорит и живет. Иными словами, говорят, что он воскрес.
— Будем серьезны, все это только слух.
— Конечно.
— И кто его распространяет?
— Женщина.
— Женщина? Нам повезло.
— Да, повезло. Ей меньше веры.
Знай, дорогой мой брат, здесь мы далеки от современного Рима, и, кроме Клавдии Прокулы, женщины здесь не имеют ни власти, ни голоса. Они нужны только ради их чрева, если оно плодоносит, а от чрева не требуют, чтобы оно мыслило, имело свое мнение, свои чувства. В Палестине с женщинами никто не считается, а их умственные способности приравниваются к месячным.