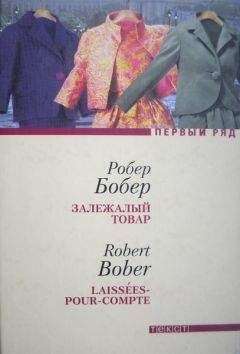Москва утверждает, что служит в каком-то банке или агентстве, но за работой я ее, честно говоря, никогда не видел. Она всегда дома. Я даже не замечал, чтобы Москва ходила по квартире – она всегда полулежит.
Москва не жадная, но в ее квартире лучше всего брать все без спроса – она даже не заметит, а вот если попросить: «Москва, одолжи утюг?», может и заупрямиться: «Свой давно пора купить!»
При знакомстве она меня спросила:
– Ну, как жить думаешь?
– Обычно. Для начала сниму где-нибудь на окраине однушку, а потом…
Москва говорит:
– Зачем тебе где-то на окраине снимать, живи у меня. Места полно!
Я переехал к ней со всеми вещами, благо их немного.
Поселила в одной из комнат. Мебель там еще от прежних хозяев – живописная рухлядь: слоеные шкафчики, полочки, этажерочки, на стене гобелен с медвежатами, кровать с панцирной сеткой.
В первую же ночь мы с Москвой напились и стали сожительствовать.
Что там у Москвы с фигурой – непонятно. Москва раздевается только при зашторенных окнах и выключенном свете – стыдлива. А когда ты с ней ложишься в постель, сразу накрывается одеялом – все равно ничего не увидишь. Грудь на ощупь большая, тело – мягкое.
Москва сладко целуется и сонно ебется. При соитии издает особые томно-тихие стоны. Необъяснимо волнительные обертона. В них все и дело. Их принимаешь за настоящую страсть, хотя, скорее всего это просто воздух, который так выходит из ее легких под твоей тяжестью. Эти стоны возбуждают, от них теряешь голову. А на самом деле Москва ничего не делает, просто лежит, раскинув ноги, звучно и волнительно дышит.
Я заметил за Москвой одну особенность. Когда ей лень поддерживать разговор, она вместо ответов подхватывает концы твоих же фраз. Такое у нее своеобразное эхо вместо речи.
– Москва, тебе со мной хорошо?
– Хорошо…
– У тебя мужчин было много?
– Много…
– Но я-то лучший?
– Лучший…
Тем более обидно узнать, что Москва мне изменяет. И не то чтобы мстит или самоутверждается. Она безразлично-любвеобильна. Ей все равно, с кем, лишь бы лежал кто-то рядом.
Уличенная в измене, она не испытывает ни доли смущения. Меня трясет от гнева.
– Бра-я-ят! – затравленно блеет застуканный кавказец. – Нэ убывай, бра-я-т!..
– Не брат ты мне, гнида черножо!..
– Чего?! – у Москвы прорезается надтреснутый бабий голос, совсем как у примадонны. – Я вот как щас милицию вызову! – визжит Москва. – Понял!? Живо пойдешь по двести восемьдесят второй!..
И я понимаю, что она действительно вызовет милицию и сдаст меня. За разжигание и прочую ксенофобию. У Москвы ни стыда, ни совести, ни исторической памяти. Ей чужда привязанность. Москве наплевать на мою ревность.
«Черножо» куда-то подевался, как будто и не было его смуглого, щетинистого присутствия.
В комнате только двое: я и Москва.
– Хорошо, дрянь, я ухожу!
– Ну и вали, – безразлично говорит Москва. Она лежит на диване и смотрит по телеку «Дом-2». Забыл сказать, у Москвы чудовищный вкус. Она часами слушает и смотрит такое, что нормальный человек не выдержит и пяти минут.
– Я ухожу. Прощай.
Москва молчит. По ее каменному лицу я вижу, что ей все равно. Она забудет обо мне, как только хлопнет дверь. Мою комнатку с ветхой мебелью займет другой. С более крепкими нервами.
– Москва, ты хоть понимаешь, что ты за сука?! Выгоняешь человека, которому даже пойти некуда!
Кстати, в этом вечернем освещении становится заметен ее возраст – складки, подбородки… Ей точно за пятьдесят.
– Ты сам уходишь, я тебя не выгоняла, – холодно отвечает Москва.
– Да? А как мне оставаться после того, что я увидел? Что молчишь? Ты можешь оторваться хоть на минуту от своего мудацкого телевизора?!
Москва поворачивает голову:
– А что ты видел?! Что?! Дикарь! Я думала, приехал из Берлина нормальный интеллигентный парень, европеец… Ведешь себя как… как фашист!
Она всхлипывает. Нет, я знаю, что это самообман. Она не всхлипывает, это обычный кокаиновый насморк. Но приятнее-то думать, что она в слезах оттого, что я бросаю ее…
– Скажи мне только одно, – спрашиваю, – я тебе нужен?
– Нужен, – включает эхо Москва.
– Попроси меня, чтобы я остался. Скажи – оставайся.
– Оставайся…
Я распаковываю вещи. Начинается постельное «мирись, мирись и больше не дерись».
– Москва, я тебя очень люблю… А ты?
Москва:
– Очень люблю… А ты?
– Люблю!
– Лю…
Вот и хорошо.
Я ухожу в свою комнату. Дело в том, что Москва, видите ли, не высыпается, если рядом с ней кто-то лежит.
– Спокойной ночи, – кричит Москва.
– Спокойной ночи, – отзываюсь я, – только ради Бога, сделай в телевизоре звук потише!
В «Легенде о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера есть примечательный эпизод. Тиль и его мать арестованы инквизицией по доносу. Их должны подвергнуть пыткам, чтобы выяснить, причастны ли они к колдовству. У пытки есть строгий регламент. Для каждой стадии следствия имеется установленный арсенал дознавательных средств. Если обвиняемый все переносит и не сознается, обвинение снимается.
Инквизиция понимает субъективность и фиктивность правды. Произнесенные всуе, слова не стоят ничего. Человек по природе скрытен и неискренен. В способах дознания инквизиции, да и не только инквизиции, а также и прочих общественных структур заложено онтологическое недоверие к человеку. Мы говорим: «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке». То есть мы склонны больше доверять словам, произнесенным в «измененном» состоянии. Мы верим, что пьяный более искренен, потому что он говорит то, что не сказал бы в трезвом виде, чаще прислушиваемся к сказанному «в сердцах», потому что вежливость в нашем понимании – культурный буфер между личностью и правдой.
Мы не доверяем окружающим, не уверены в самих себе, ибо наша суть часто скрыта от нас. Откровенность можно добыть лишь тяжким и кровавым трудом. Единственная возможность приблизиться к человеку – поместить его в измененное состояние, отличное от его обычной жизни. Пытка – одно из таких средств.
Пытаемый человек, как и пьяный, уже ближе к себе истинному. Поэтому слова, полученные под пыткой, имеют больший вес. Чем изощреннее пытка, тем выше проба правды. И регламент инквизиции только сортирует эту правду.
На первом этапе инквизицию вполне устраивает «грузинский чай», правда второго сорта.
Для нас наиболее убедителен опыт страдания, а не опыт счастья. Мы верим человеческой жизни, только если она окрашена муками, реалиями «огня и воды», через которые некто Х. прошел.
Фронтовик, написавший роман о войне, более честен, чем тыловой литератор, потому что первый «знает жизнь» не понаслышке. Автор, «выстрадавший» свое произведение, искренен.
Индивид, непроверенный несчастьем, весьма сомнителен. В каждом обществе существуют свои институты экстремальных ситуаций, в которых проверяется человек: война, армия, тюрьма, сума. Так, в африканских племенах инициация подростков во взрослых особей связана с нанесением увечья – шрамы, выбитые зубы. В народе говорят: «невоевавший мужик, как нерожавшая баба». Применительно к бабе акцент делается не на само деторождение, а на муках и риске, связанных с родами. Мужик проверяется войной, его поведением в боевой обстановке. Струсил, побежал, предал – означает статус «не мужик», племенной брак.
Испокон веков друзья познаются в беде. «Беда» (экстремальная ситуация) оказывается единственным верным способом познания окружения. «Беда» – лакмусовая бумажка при анализе истинной сути человека. Возникает лишь вопрос – истинную ли личность мы наблюдаем, не имеем ли мы дело с оборотнем души, которую формирует сама экстремальность? Почему мы решили, что какой-нибудь гражданин Х. – безобидный пузан, любитель телека и футбола, пива и чипсов – станет «настоящим» только в окопе под шквальным огнем? Вдруг его истинная суть, личностная правда – диван, телек и пиво? А там, на войне, гражданин Х. в тот же миг перестанет быть собой, и наружу вылезет антиличность.
Брошенный муж может сколько угодно обвинять отрекшуюся жену, забывая о том, что женой она была только без включения фактора «экстремальность», и уже не важно, что им стало – потеря ног или имущества. О такой женщине общество скажет следующее: она всегда притворялась, и лишь несчастье открыло ее истинное лицо. Но никто не задумается, а может, «правдивой» она была лишь когда у супруга имелись ноги или деньги. А с их пропажей включилась антиличность.
Тиль Уленшпигель и его мать с честью выдерживают испытание, их отпускают. Они настоящие герои – для автора и для читателя. Под пыткой они показали себя, проявили характер. «Битие» определило сознание. Если бы Тиль не выдержал мук и сдался, мы бы не смогли любить его. Тиль Уленшпигель – настоящий герой, потому что мы, читатели, сами считаем, что истинная суть человека проявляется в экстремальной ситуации. И в этом контексте мы уже сотни лет заодно с инквизицией…