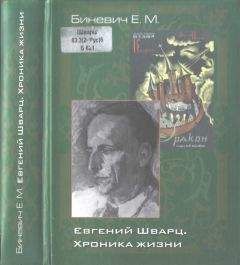Прасковья не поняла:
— На какой ишшо на второй, милок? С Гвидоном-та поругалися они, што ль? Вон же, спять как хорошо умеете.
Шварц хохотнул:
— Вот и я так хочу, баб Параш. Просто сплю и вижу…
Патришу Юлий Шварц доставил на Кривоарбатский значительно позже ожидаемого времени. Во-первых, смотрели центр. Пока ехали, раза четыре делали остановки. Выходили, Юлик тыкал пальцем в сооружения и дома, объяснял, что к чему. Затем заскочили на Софийскую набережную — посмотреть на здание английского посольства. Джон как-то, в один из приездов, завозил туда девочек, даже по случаю познакомил с самим послом. Дом запомнился и не растворился в памяти, больно уж красивый особняк, настоящий старинный, папа говорил, от князей каких-то остался. Или от графа.
Ближе к финалу путешествия тормознули у Мельникова. И снова так получилось, что Виктор Константинович двор мёл. Заметив Триш, приветливо помахал рукой и пошёл отворять калитку. Принял за Прис, само собой. Та поздоровалась и спросила глуповато, на неважном русском:
— Хеллоу! Как дела?
Приветствие и сам вопрос сыну архитектора показались отчего-то странными, и он в недоумении пожал плечами. Заметил лишь:
— В последний раз вы говорили вроде бы получше.
Вмешался Шварц:
— Это не Присцилла, Виктор Константиныч, это её сестра.
Мельников понимающе вскинул головой:
— Тоже любопытствуете? Что ж, прошу.
В общем, ещё лишних полчаса грибной суп остывал в фарфоровой супнице. А таксист нервничал в простое, однако Юлик, блюдя себя истинным джентльменом, успокоительно кивнул тому, не дёргайся, мол, добавлю сколько надо, не боись.
В это время, пока Мельников водил его будущую невесту по этажам знаменитого дома, демонстрируя на третьем этаже «стакана» мастерскую великого отца, он и сам дёргался и психовал. Тому была веская причина. Эта незвонкая и слегка заторможенная после перелёта Патриция Харпер за то непродолжительное время, пока они добирались до Арбата, успела понравиться Шварцу гораздо больше, чем нравилась её деятельная сестра.
Мамина еда, как и предполагала Приска, совершенно добила её сестру. И в силу усталости, и по причине новых вкусовых впечатлений.
— У нас так не есть всё запахнуть, — с трудом вспоминая подходящие русские слова, пыталась она донести до Таисии Леонтьевны сущность полученных ощущений. — Это просто чудес очен хороший, очен, очен вкусное еда от вас.
Юлик почти ничего не ел. Выпивать — выпивал вместе со всеми, но откусывал потом от одного и того же пирожка с капустой. Гвидон толкнул его под столом ногой, мол, жри давай, а то подумает — алкаш. На Гвидоновы толчки Юлик не реагировал: неотрывным взглядом упёрся в Триш и глуповато улыбался невпопад. Таким, как в этот раз, своего друга Иконников не помнил последние лет двадцать, разве что в июне, в кафешке, когда тот впервые взял в руки брайтонскую фотографию семьи Харпер.
Уставшую с дороги Тришу разместили в дальней комнате. Там же, задвинутое в угол, стояло старое-престарое пианино «Бехштейн». Последние лет тридцать на нём никто не играл, и оттого оно пребывало в состоянии полной расстроенности, донельзя. Триш подошла к инструменту, откинула крышку, взяла две ноты поочерёдно. И закрыла. А Юлик поехал ночевать домой, на Серпуховку, куда в последнее время наведывался крайне редко. Гвидон же увёз Приску на Октябрьскую, в Юликов полуподвал.
На другое утро, дав выспаться будущей жене, Шварц заехал за Тришей на Арбат, и они двинули к нему в мастерскую. Ехали на метро, но получилось совсем не быстро, потому что почти на каждой станции Триш просилась выйти и с неподдельным интересом, внимательно и неторопливо осматривала затейливую архитектуру станций, мозаичные потолки, бронзовые скульптурные изображения, барельефные стены.
Когда, наконец, добрались до мастерской, своих там не застали. Постель была ещё тёплой, и куда делись ребята, Шварц не понимал. Но это было уже неважно, потому что у них у самих всё завязалось раньше самых смелых предположений.
Началось с собачьего портрета, ещё не забранного Фелькой. Триш зашла в тесное полутёмное помещёние, осмотрелась и замерла. Через тюремный, решетчатый квадрат, с не снятого с мольберта холста, натянутого на подрамник, прямо на неё смотрели пронзительные пёсьи глаза. И столько в этом взгляде было глубоко закопанной животной боли, столько обиды от несправедливой этой подворотной жизни, столько лучилось в них надежды на милосердие незнакомого, доброго человека и такая пробивалась неисчерпаемая готовность человеку этому служить, что Патриша замерла на месте, не отводя от картины взгляда.
— Это наш Ирод, — заметив, как её приковало к холсту, пояснил Шварц. — Он тут живёт, в нашем дворе. Мы с ним дружим. Иногда он ко мне заходит в гости.
— Ваша работа? — всё ещё продолжая смотреть, спросила Триш.
— Моя, — пожал плечами Юлик. — Чья же ещё? Нравится?
— Это чудо есть… Вы очен, очен, болшой атыст. Это тэлант… — она замялась, — тэлэнтэд.
— Тогда эта картина ваша, Триш, — сказал Юлик, снял её с мольберта и протянул девушке. А про себя подумал: «Всё равно общая будет. А Фелька сто процентов не поверит, подумает — сам нашёл покупателя и хочет засадить дороже. Да и чёрт с ним, не хрена подойники чужие размолачивать. Стоп! А деньги-то обратно? Ладно, у матери займу…»
А вот этого он страшно не любил, хотя и приходилось иногда употреблять родственную связь, когда с деньгами было кисло. Однако Мира Борисовна всегда давала, но и всегда звонила насчёт возврата в назначенный срок, если они долго не виделись. Юлик знал, что денег матери не жалко. Просто должен быть порядок во всём, тем более в щепетильной сфере. Профессия, которую выбрал сын, Миру Борисовну категорически не устраивала своей неконкретностью и безыдейностью. Пыталась, с запозданием, вставить слово, когда через год после окончания войны Юлий вернулся домой и сразу понёсся в Суриковку, узнавать про что там и как насчёт продолжения учёбы. Но не посмела. Оба боевых ордена и медали не позволили.
Тайно она страшно гордилась фронтовым сыновьим прошлым; всё время, пока шла война, просила у неизвестно кого сделать так, чтобы не убило сына и не поранило. Видно, этот кто-то услышал, не убил и не поранил. Признаться себе, что просила в тот момент у незнаемых небесных сил, не могла, потому что в эту сторону и на самом деле не думала. А в какую думала, сама не знала. Именно это, так и не прояснённое до конца обстоятельство и стало в её удобопонятной и отлаженной жизни той самой затыкой, о которую Мира Борисовна споткнулась впервые. А в день победы, услышав по радио знакомый сипловатый голос, незвучный, но родной, сообразила, кому адресовала непроизнесённые слова. К нему — к единственному вождю вождей. К солдату, генералиссимусу, победителю и отцу в одном прекрасном лице с горделивым профилем.
В эвакуацию она ехать категорически отказалась, решив, что встретить врага советская женщина-мать должна у порога своего дома, если, конечно, враг явится к ней сюда, на Серпуховку. Отсиживаться в Узбекской ССР она не станет, не так воспитана. А врагу на его родном языке она объяснит, чтобы проваливал отсюда пока цел, потому что всё равно, рано или поздно, придут наши и свинтят ему голову вместе с фашистской каской. Именно так она ему и разжуёт. Или умрёт любой смертью. Тут же. На Серпуховке.
Когда ребята вернулись, Триш всё ещё вглядывалась в морду Ирода. В руках Гвидон держал авоську, в которой, накренясь, зависла над полом трёхлитровая банка разливного пива. За этим пивом после того, как они проснулись и освободились от утренних объятий, Гвидон увёл Приску, чтобы она воочию познала, как русские уважают пенный продукт. Прис подскочила к сестре и, прыснув, выдала по-английски:
— Ты себе представить не можешь, они продают пиво из маленьких железнодорожных цистерн на колесах. Одну опустошают, другую привозят.
Сестра прореагировала без энтузиазма. Просто кивнула, известив тем самым, что приняла информацию к сведению. Она всё никак не могла оторваться от Ирода. Пёсья морда никак не отпускала Триш, вогнав в состояние внезапного ступора. Гвидон то ли сочувственно, то ли с полным пониманием вопроса покачал головой, поставил банку на стол, сделал руки рупором, поднеся их к губам, и торжественным шёпотом, адресованным всем, кроме Триш, застывшей с картиной в руках, выдал:
— Ну, всё! Наша будет… — Затем он сдёрнул с банки крышку и с напускным гневом выкрикнул в сторону хозяина мастерской: — Нет, ну стаканы сегодня будут или не будут, я не понял?!
Их роман, последовавший сразу вслед за вручением Иродова портрета, разрастался не менее стремительно, чем у Тришкиной сестры с Гвидоном. Через неделю Триш уже вполне бегло болтала по-русски, с каждым часом извлекая из памяти всё больше и больше правил подзабытой грамматики и отдельно всплывающих русских слов. В тот Иродов день они устроили себе пивной вечер. Трёхлитровой банки из цистерны им не хватило, пришлось потыркаться по близлежащим торговым точкам. Однако поход оказался безуспешным: пива нигде не было, народ разобрал восстановительный напиток ещё с похмельного утра.