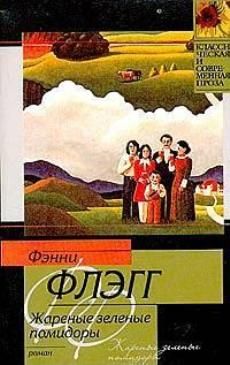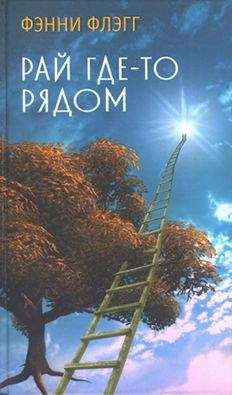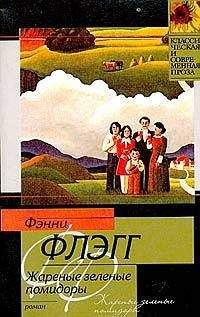— Ничего себе! И вы сами это видели, своими глазами?
— Конечно. Две двойки, самые натуральные двоечки.
Культяшка шел, задумавшись, и вдруг заметил какой-то предмет, лежавший в снегу около рельс. Он подбежал и поднял его.
— Смотрите, тетя Иджи, это банка квашеной капусты, её даже не открыли.
И вдруг его словно мешком по голове огрели. Он вцепился в банку и придушенным голосом прошептал:
— Тетя Иджи, клянусь, это из тех консервов, которые Железнодорожный Билл сбросил с поезда. Как вы думаете? — Иджи осмотрела банку.
— Может, ты и прав, дружок, очень даже может быть. Положи-ка обратно, пусть её найдут те, кому она предназначена.
Культяшка осторожно, как священную реликвию, положил банку на то же место.
— Вот здорово!
Первый в жизни снег, а теперь вот банка, которую, возможно, сбросил сам Железнодорожный Билл. Не слишком ли много для одного дня? Они пошли дальше, и через несколько минут Культяпка сказал:
— Наверно, этот Железнодорожный Билл — самый смелый человек на свете, как думаете, тетя Иджи?
— Конечно, смелый.
— Но разве не самый-самый из всех, кого вы знаете?
Иджи подумала.
— Я бы не сказала, что самый-самый. Он смелый, это верно, но не самый.
Культяшка даже остановился.
— Да кто же может быть смелее Железнодорожного Билла?
— Большой Джордж.
— Наш Большой Джордж?
— Ага.
— А что он такого сделал смелого?
— Начнем с того, что меня с тобой сейчас бы не было, если б не он.
— Вы имеете в виду — сегодня?
— Нет, я имею в виду вообще. Меня бы сожрали свиньи.
— Да вы что!
— Да, сэр. Мне было года два, может, три, мы с Бадди и Джулианом болтались около загона со свиньями, и я свалилась прямо в корыто.
— Неужели правда?
— Ну да. Свиньи побежали прямо ко мне, а ты знаешь, они едят все подряд… Сколько угодно случаев, когда они пожирали детей.
— Правда?
— Конечно. В общем, я вылезла из корыта и бросилась бежать, но упала. Они меня почти догнали, как вдруг Большой Джордж прыгнул в загон и стал их расшвыривать. А свиньи были здоровенные, весом фунтов в триста каждая. Он хватал их и бросал на другой конец загона, как мешки с картошкой, и не подпускал ко мне, пока Бадди не пролез под оградой и не вытащил меня из загона.
— Правда?
— Правда. Ты видел, какие у Большого Джорджа шрамы на руке?
— Да.
— Это его тогда свиньи поранили. Но Большой Джордж ни слова папе не сказал — он понимал, отец убил бы Бадди за то, что тот водил меня к загону.
— Я этого не знал.
— Ну откуда ж тебе было знать!
— Ничего себе! А кто ещё самый смелый? Может, дядя Джулиан? Он на прошлой неделе подстрелил оленя с большими рогами. Для этого надо быть очень смелым.
— Ну, смелость смелости рознь, — сказала Иджи. — Чтобы убить беззащитное животное из ружья двадцатого калибра, большой храбрости не требуется.
— А тогда кто ещё смелый, кроме Большого Джорджа?
— Дай сообразить. — Иджи задумалась. — Кроме Большого Джорджа я бы назвала твою маму.
— Маму?
— Да, твою маму.
— Нет, я не верю. Почему? Она же всего боится, даже крошечного клопа. Что она такого храброго сделала?
— Кое-что сделала. Однажды она кое-что сделала.
— Что же?
— Не важно. Ты спросил, я ответила. Твоя мама и Большой Джордж — двое самых смелых людей из тех, кого я знаю.
— Правда?
— Честное слово.
Культяшка был потрясен.
— Это ж надо!
— Вот так-то. И я хочу, чтобы ты ещё кое-что запомнил. Человек — самое загадочное существо на земле и самое замечательное. Никогда не забывай этого. Слышишь?
Культяшка посмотрел на неё и твердо сказал:
— Да, мэм. Не забуду.
Они пошли дальше вдоль рельсов, а ярко-красный кардинал, сорвавшись с покрытого снегом дерева, взмыл вверх над белым горизонтом.
ПРИЮТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ «РОЗОВАЯ ТЕРРАСА»
Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама
9 марта 1986 г.
Раньше в такие бесконечно долгие черные ночи Эвелин часто просыпалась в холодном поту и боролась с кошмарами: её преследовали видения смерти, трубок, ведущих к аппаратам в отделении реанимации, растущих в теле опухолей. Ей хотелось закричать, позвать на помощь Эда, который безмятежно спал рядом. Но она не кричала, а продолжала до утра лежать на дне пропасти, во тьме собственного ада.
Теперь, чтобы изгнать из мыслей холодное дуло и медленно спускаемый крючок, она закрывала глаза и заставляла себя услышать голос миссис Тредгуд, а если глубоко вздохнуть и сосредоточиться, то ей удавалось очутиться в Полустанке. Она шла по улице, заходила в салон красоты миссис Опал и почти ощущала, как ей моют волосы теплой водой, потом прохладной, потом холодной. После укладки она шла на почту навестить Дот Уимс, затем в кафе, к людям, которых так явственно себе представляла: к Культяшке, Руфи, Иджи. Она заказывала завтрак, а Уилбур Уимс и Грэди Килгор приглашали её за свой столик. Ей улыбались Сипси и Онзелла, а с кухни доносились звуки радио. Все спрашивали, как она поживает, и солнце всегда светило в окна, и всегда наступало завтра… Потом она все глубже и глубже погружалась в сон и все меньше думала о пистолетах.
Проснувшись сегодня утром, Эвелин поняла, что с нетерпением ждет поездки в приют. Как ни крути, но рассказы о кафе и Полустанке стали для неё куда большей реальностью, чем её нынешняя жизнь с Эдом в Бирмингеме.
Как всегда, её новая приятельница была в прекрасном настроении и искренне обрадовалась шоколадке «Херши» без миндаля, которую ей привезла Эвелин. Съев почти половину, миссис Тредгуд заговорила:
— Господи, хотела бы я знать, что стало со Смоки Одиночкой? И где он теперь, может, умер? Наверно, умер.
Я хорошо помню, как он первый раз появился в кафе. Я лакомилась жареными зелеными помидорами, а он постучал с черного хода и попросил поесть. Иджи ушла на кухню и скоро вернулась с этим бедным парнем. Он был ужасно грязный, весь в угольной пыли, и она велела ему пойти умыться. А потом пошла приготовить ему поесть и говорит: в жизни не встречала человека, который выглядел бы таким одиноким. Он сказал, что его зовут Смоки Филлипс, но Иджи окрестила его Смоки Одиночкой, и с тех пор каждый раз, когда видела его, она говорила: «Вот идет старый бродячий кот Смоки Одиночка».
Бедняга, у него, небось, и семьи-то никакой не было. Руфь с Иджи пожалели его, потому что он был какой-то полудохлый, и пустили жить в сарайчик за кафе. Порой его разбирала тяга к перемене мест, и два или три раза в год он куда-то исчезал, но рано или поздно все равно возвращался — пьяный, усталый, оборванный — и опять жил в своем сарайчике. У него вообще ничего не было, ни единой вещи, разве что вилка да ложка. Он носил их в кармане пальто, а открывалку затыкал за ленту на шляпе. Говорил: не хочу себя ничем обременять. По-моему, тот сарай за кафе был единственным местом, которое он мог назвать своим домом, и если бы не Руфь с Иджи, он наверняка бы умер с голода.
Но я все-таки думаю, Смоки возвращался по другой причине… По-моему, он был влюблен в Руфь. Правда, он никогда этого не говорил, но достаточно было видеть, какими глазами он на неё смотрит.
Знаете, я рада, что мой Клео умер первым. Мне кажется, мужчины не справляются с жизнью без женщины, потому-что многие так недолго живут после смерти своих жен. Они просто теряются. Жалко их. Возьмите хоть старика Данауэя. Месяца не прошло, как умерла его жена, а он уже бегает за каждой юбкой… Вот почему его пичкают успокоительными лекарствами: чтобы угомонился. Считает себя Ромео, можете представить? А сам похож на старого лопоухого индюка. Хотя кто я такая, чтобы насмехаться! Ведь совершенно не важно, как ты выгладишь, все равно найдется человек, который считает тебя самым прекрасным существом на свете. А что, может, ему и удастся подцепить кого-нибудь из здешних старушек…
Чикаго, штат Иллинойс
3 декабря 1938 г.
Улица Уэст-Медисон в Чикаго ничем не отличалась от улицы Пратт в Балтиморе, от Главной Южной улицы в Лос-Анджелесе или от Третьей улицы в Сан-Франциско. Улица евангелических миссий, дешевых отелей и меблированных комнат, магазинчиков поношенной одежды, забегаловок с жирными ложками, ломбардов, винных магазинов и публичных домов, предназначенных для мужчин, которых снисходительно называют «разочаровавшимися».
Этот год в Чикаго отличался от других лет только тем, что Смоки Одиночка, который всегда гулял сам по себе, на этот раз обзавелся попутчиком. Честно говоря, он был совсем ещё зеленым, этот мальчишка, но ничего, решил Смоки, для компании сойдет. Они познакомились месяц назад в Мичигане.
Мальчишка был симпатичный, с совсем детским лицом. Путешествовал он в сером свитере поверх коричневой рубашки, в потрепанных коричневых штанах, а кожа у него была нежной, как попка ребенка. Молоко на губах ещё не обсохло, а уже влип в неприятности: в Детройте к нему прилепились какие-то парни, пытались изнасиловать. Ну он и спросил Смоки: ничего, если я немного с тобой покантуюсь?