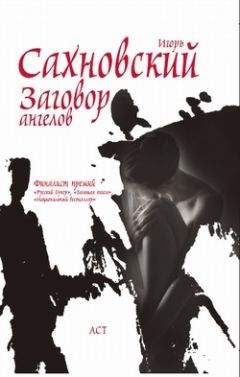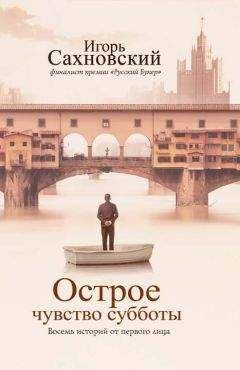У юноши Нестерова была длиннющая тонкая шея, как у общипанного петушка, которая несолидно торчала из грубой шинели, стоявшей колом. Чтобы защититься от январского ветра, Нестеров поднимал колючий ворот, и задубелое сукно за день натирало затылок до крови. Январь одна тысяча девятьсот двадцатого был беспощадным. Эшелон чешского батальона подошёл к иркутскому вокзалу 15-го числа, уже в сумерках, и несколько часов простоял на станции, закрытый и безмолвный. Вагон с Колчаком, прицепленный к хвосту эшелона, был увешан красно-сине-белыми флагами: американским, английским, французским, японским, чехословацким и русским Андреевским. Но эти знамёна здесь ровно ничего не значили: союзники ушли из города накануне.
В девять вечера капитан Нестеров с тремя конвойными поднялся в вагон.
Он успел не единожды мысленно отрепетировать эту фразу – и всё равно, когда наткнулся на твёрдый холодный взгляд верховного правителя России, безобразно смутился и сорвался на фальцет.
Колчак смотрел на него с полным безразличием, как на человека, от которого невозможно услышать ничего нового.
– Адмирал! – сказал Нестеров, слишком явно волнуясь. – Именем революционной советской республики объявляю вас арестованным!..
В ответ он ожидал чего угодно, вплоть до пули в живот. Но только не театрального пафоса.
Колчак поднялся и воскликнул, адресуясь к комуто невидимому:
– Измена!
Сидящая рядом бледная Темирёва не произнесла ни одного слова. Просто положила тихо ладонь на руку своего невенчанного мужа: дескать, ладно, Саша, чего уж тут восклицать?
– Ну да, пафос, театральность, – повторил Нестеров, отвлекаясь от пива. – Даже в такой ситуации!.. Но ведь и правда, была измена. Как её по-другому назовёшь? Самое похабное предательство. А он так себя вёл, что я робел перед ним, даже обыскать его постеснялся. Очень достойно вёл себя… Не то что Пепеляев.[14] За этим когда пришли в камеру, он валялся в ногах, умолял не расстреливать. Клялся, что хотел перейти на сторону красных.
– Вы в расстреле участвовали?
– Нет, Бог миловал. Мне потом рассказали. Их в четыре утра двоих вывели и поставили на пригорок. Пепеляев молится во весь голос, а Колчак молчит. Самое последнее его слово было – «нет». Спрашивают: «Завязать глаза?» – «Нет». После расстрела отвезли на санях к Ангаре и свалили в прорубь.
Через восемнадцать подробных советских лет Нестеров уже никого не арестовывал и не конвоировал, потому что конвоировали его самого. Это только на первых порах он ничего не подписывал, посылал всех к ебёной матери и готов был вынести любые нечеловеческие пытки. Пытки не понадобились вообще.
Хватило полутора недель почти круглосуточных допросов (когда свеженькие, отдохнувшие следователи исправно сменяли друг друга) и полного запрета на сон. Спустя десять суток он с готовностью признался в таких грехах, какие не виделись ему и в ночных кошмарах.
Неописуемая была сцена: во время очередного стандартного допроса, после трёхсотого повторения фразы «Мне не в чем сознаваться!» дверь кабинета распахнулась, и под барабанный бой вошёл караван верблюдов. Чёрные дромадеры с закрытыми глазами, каждый высотой с двухэтажный дом, покачивая длинными мордами, шли и шли торжественной колонной в ритме бравурного марша. Барабаны били всё грубее. Нестеров почувствовал, как мороз ползёт по коже, а промежность обжигает струя мочи. И когда стадо горбатых чудовищ начало взбираться по стенам к потолку, нависая со всех углов, ему стало настолько страшно, что он закричал высоким дурным голосом, согласный абсолютно на всё. И потом, едва придя в себя, торопливо и старательно подписывал каждую страницу, всё, что ему подсунули; более того, тысячу раз мысленно благодарил тех, кто отволок его в камеру, позволив наконец уснуть. Ничто не подарит ему в жизни большего блаженства, чем нары «телячьего» вагона для арестантов, где он спал и спал в бесконечном приближении к Дальнему Востоку.
На пересылочном пункте Вторая Речка[15] бараки для заключённых были расставлены по северному склону сопки четырьмя правильными рядами. Прибывших подвергали простой сортировке: пока ещё здоровых грузили в трюмы барж, уходящих морем на Колыму, где за тридцать-сорок дней работы на добыче золота нормальный мужчина превращался в доходягу, сдуваемого ветром; изначально немощные попадали в «отсев» – их ждали Мариинские лагеря или зимовка на Второй Речке, тифозная и вшивая. В числе отсеянных был человек по фамилии Мандельштам, которого Нестеров увидел на исходе осени 38-го.
Транспортов не хватало. С появлением льдов навигация прекращалась. Когда ссыльных скапливалось чересчур много, до полусотни тысяч и больше, бараков не хватало тоже. Люди просто сидели под открытым небом, на земле и на снегу, возле костров, грудились, жались друг к другу, будто овцы, с фатальной обречённостью животных, которых пригнали на убой.
Кто-то из сидящих рядом сказал Нестерову: «Смотри, вон поэт Мандельштам», и он оглянулся. Тот, на кого указали, сильно выделялся из общей массы своей неприкаянностью – дёрганый старик в драном кожаном пальто жёлтого цвета. Нестеров потом ещё несколько дней наблюдал за ним: поэт ходил отдельно от всех, как пария, не брезговал близостью выгребных ям, иногда выпевал вполголоса какие-то звуки и безумные сочетания слов. Кожаного пальто на нём вскоре не стало; говорили, Мандельштам поменял его на кулёчек сахара, который сразу же украли.
Я пытаюсь представить это огромное количество людей, моих соотечественников, как они просыпаются зимними утрами на заскорузлом краю света, сами себе чужие, выдернутые с корнем из своей жизни, из нежного родного естества. И кроме голода, вшей, болячек и страха перед завтрашним днём, их неминуемо настигает один и тот же вопрос. Почему, по чьей милости та страна, что могла быть раем, самая прекрасная земля стала загоном для человеческого скота, заповедником террора и унижений? Кто это натворил? И наиболее мужественные среди них рано или поздно нарывались на здравый ответ: мы же и натворили. По своей воле.
С двадцатых чисел декабря на Второй Речке дул резкий снежный ветер, на сопках бесчинствовала метель. Мандельштама не стало уже в конце месяца. В том году ему исполнилось сорок семь. Нестеров перезимовал на пересылочном пункте до начала навигации, а затем был отправлен на северную золотую каторгу. О том, как он сумел сохранить себя на Колыме и вообще сумел ли, Нестеров предпочитал всю жизнь молчать.
Людмила не ограничилась одним лишь объяснением про «изумрудик». Ей не терпелось сообщить нам с сестрой ещё одну подробность, которая на исходе восьми лет беганья за отцом лишала её покоя.
Это случилось уже после операции, когда отец на короткое время вернулся из больницы домой. Он не жаловался Людмиле на самочувствие, но иногда по ночам, во сне, бредил. Она лежала рядом и слушала его невольные откровения, боясь узнать что-то плохое. Вот и узнала. Однажды в бреду отец очень отчётливо и громко выговорил имя бывшей, покинутой жены. Даже несколько раз позвал: «Лида, Лида!» Под утро Людмила не сдержалась и в сердцах отчитала его: «Как же так? Лежишь тут в постели с одной женщиной, а во сне зовёшь другую?» Отец оставил её претензию без ответа. И сейчас она терзала нас с сестрой бессмысленными грустными вопросами. Мы опустили глаза, как бы сожалея об отцовской бестактности. Уместных слов на эту тему у нас тоже не нашлось.
Людмила напомнила мне, чтобы я забрал вещи отца, какие захочу. Я взял старый полевой бинокль с шестикратным увеличением и большую готовальню с чёрным бархатным нутром – только то, что он увёз когда-то из дома. Людмила вдруг спохватилась и попросила меня на всякий случай, чтобы я ничего больше не забирал: «Он ведь ещё выздоровеет!..» Но я и не посягал.
Через полтора месяца она пришлёт мне две посылки. В пыльных холщовых мешках, исписанных химическим карандашом, уместятся поношенный овчинный полушубок, стопка альбомов европейской живописи и тринадцать разрозненных томов Большой медицинской энциклопедии.