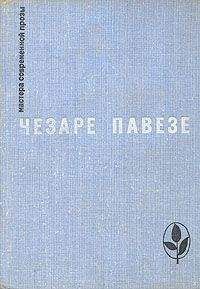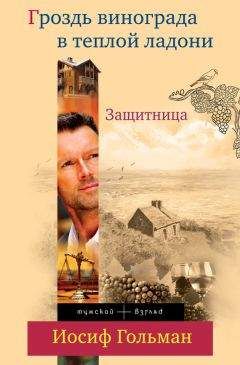Я пытался обнаружить на лице у Сильвии следы того, что они проделывали с Маттео. В тот сентябрь, когда мы приступили к сбору винограда, она, как и в прежние годы, вместе с Иреной пришла к нам на виноградник; укрывшись за кустами, я разглядывал ее руки, тянувшиеся к гроздьям винограда, глядел на ее бедра, на талию, на челку, падавшую на глаза, глядел, как шагает она по тропинке, как вскидывает голову – я знал ее всю, от гребенки до ногтей на ногах,– и все же ни разу не смог бы сказать: «Вот в этом она изменилась, вот где след Маттео». Она была все той же Сильвией.
Этот сбор винограда был последним радостным временем на Море. В День Всех Святых Ирена слегла, позвали доктора со станции. У нее оказался тиф, умирала Ирена. Сантину с Сильвией отослали в Альбу к родным, чтоб уберечь от заразы. Сильвия ехать не хотела, но потом смирилась. Теперь пришлось побегать мачехе да Эмилии. В верхних комнатах беспрестанно топили печь, дважды в день меняли Ирене постель, она бредила, ей делали уколы, у нее стали выпадать волосы. Мы то и дело ездили в Канелли за лекарствами. Однажды во дворе появилась монахиня. Чирино сказал: «Не протянет она до рождества»,– а на следующий день послали за священником.
Что осталось теперь от Моры, от всего этого, от нашей прежней жизни?
Сколько лет прошло, но стоило мне услышать, как ветер шевелит листвой липы, и я чувствовал себя другим человеком, становился самим собой, не зная даже толком отчего. Я думал о том, сколько людей, должно быть, живет в этой долине и вообще на свете,– людей, с которыми как раз теперь-то и происходит то, что было с нами, только они не знают об этом, не думают. Может, и теперь есть такой дом, есть девушки, старик, ребенок, есть такой вот Нуто, есть Канелли, есть железнодорожная станция и есть такой парень, как я, которому не терпится уехать, разбогатеть. Летом там молотят зерно, потом убирают виноград, зимой ходят на охоту, и дом у них с верандой – словом, все у них точь-в-точь как было у нас. Так непременно и должно быть. Ребята, женщины, мир не изменились. Теперь уже не в моде зонтики от солнца, по воскресеньям люди ходят в кино, а не на площадь, зерно сдают на элеватор, девушки курят – а жизнь осталась все той же, и молодежь не знает, что настанет день, когда придется оглянуться и тоже все окажется позади.
Когда я сошел на берег в Генуе и очутился посреди разбитых войной домов, мне прежде всего подумалось, что здесь каждый дом, каждый двор, каждый балкон был чем-то для кого-нибудь. И тут не только ущерб, не только жертвы – тут жаль прожитых лет, что ушли в небытие за одну ночь, не оставив даже следа. Может, я не прав, может, так лучше? Может, лучше, чтобы все сгорело, как сухая трава в костре. И чтобы люди все начали заново. Так поступали в Америке. Надоест что-нибудь, наскучит работа, приестся место – и люди все меняют. Там можно встретить целые селения – ресторан, мэрия, лавки,– и никого не осталось, пусто, как на кладбище.
Нуто неохотно говорил о Море, но все расспрашивал меня, кого я встретил из тех мест. Он имел в виду парней, с которыми мы сиживали в трактире, окрестных ребят, с которыми мы играли в кегли и в мяч, девушек, с которыми мы танцевали. Он знал обо всех: где кто теперь, что с кем случилось. Когда мы сидели у него на Сальто и кто-нибудь из них проходил по дороге, он подмигивал и спрашивал, по-кошачьи прищурив глаза: «Ну, а этого ты еще помнишь?» Потом он наслаждался удивлением, написанным на лице прохожего, и наливал вина нам обоим. Начинался разговор. Кое-кто обращался ко мне на «вы». «Я Угорь,– прерывал я,– так что ты брось эти церемонии!… Ну, а что сталось с твоим братом, с твоим отцом, с твоей бабушкой? А собака-то ваша подохла?»
Мои старые приятели не слишком изменились; если кто изменился, так это я. Они вспоминали, какую штуку я выкинул когда-то и что сказанул, вспоминали и разные истории, о которых я позабыл. «А Бьянкетта? – спрашивал меня кто-нибудь.– Ты Бьянкетту помнишь?» Еще бы не помнить! «Вышла замуж за Робини,– говорили мне,-и живется ей хорошо».
Что пи вечер Нуто приходил за мной в «Анжело», вызволял меня от врача, секретаря мэрии, старшины карабинеров, от засевших там землемеров и заводил со мной разговор. Как два монаха на свободе, прогуливались мы вокруг деревни, вслушивались в стрекот цикад, в шум реки; в прежние времена мы никогда не приходили сюда в такой поздний час: жили другой жизнью.
Однажды вечером, когда над окутанными тьмой холмами поднялась луна, Нуто спросил меня, как это вышло, что я отправился в Америку. Он хотел знать, решился ли бы я на это еще раз, если бы снова представился случай и было бы мне, как тогда, двадцать лет. Я ответил, что уехал не потому, что меня тянуло в Америку, а со зла – потому, что здесь не мог выбиться в люди. Мне не уехать хотелось, а вернуться сюда в один прекрасный день после того, как все давно решат, что я с голоду подох. В деревне я обречен был остаться батраком, как старик Чирино. (Он тоже давно умер – сломал спину, свалившись с сеновала, и потом еще больше года промучился.) Значит, стоило попытать счастья, стоило переправиться через Бормиду, а потом пересечь океан.
– Но нелегко вот так сразу решиться и сесть на корабль,– сказал Нуто.– Ты оказался смельчаком.
– Никакой тут храбрости не было,– сказал я,– просто удрал.– Теперь уже имело смысл рассказать ему все.– Помнишь, о чем мы толковали с твоим отцом в мастерской? Он уже тогда говорил, что невежды всегда будут невеждами, потому что сила в руках у тех, кто не хочет, чтобы люди во всем разбирались,– в руках у правительства, у чернорубашечников, у капиталистов… Здесь, на Море, все было еще ничего, но вот в солдатах, когда я шатался по улочкам Генуи, я разобрался, какие они – хозяева, капиталисты, офицеры… В те времена правили фашисты, ни о чем говорить нельзя было… Но были и другие люди…
Я никогда ничего ему обо всем этом не рассказывал, чтобы но заставлять и его говорить – теперь уж все равно ни к чему, да и сам я через двадцать лет, после всего, что было, не знаю, но что и верить. Но в ту зиму в Генуе я поверил… Сколько ночей провели мы в спорах с Гвидо, с Ремо, с Черрети в теплице при доме моего полковника. Потом Тереза испугалась, больше не хотела нас пускать, и тогда я сказал ей – пусть так и остается в прислугах, значит, она того заслуживает, а мы хотим твердо стоять на своем, хотим бороться. Мы продолжали свое дело в казармах, в трактирах, а отслужив в армии – на судоверфях, где находили работу, и в вечерних технических школах. Тереза теперь слушала меня терпеливо и одобряла за то, что я учусь, за то, что хочу своего добиться, и кормила меня на кухне. К разговору о политике мы с ней больше не возвращались. Но однажды ночью пришел Черрети и предупредил, что Гвидо и Ремо арестованы, а остальных ищут. Тогда Тереза, ни в чем меня не упрекнув, поговорила уж не знаю с кем – то ли с родственником, то ли с прежним своим хозяином – и за два дня устроила меня палубным матросом на корабль, который отправлялся в Америку.
– Вот как это было,– сказал я Нуто.
– Видишь, как выходит,– ответил он.– Порой достаточно мальчишкой услышать словечко, пусть от старика, пусть от такого бедолаги, как мой отец, и у тебя откроются глаза… Я рад, что ты думал не только о том, как пажить деньги… А что сталось с твоими товарищами?
Так мы с ним разгуливали по дороге неподалеку от селения и толковали о нашей судьбе. Я поглядывал па луну и слушал, как вдали скрипят колеса телег – вот чего в Америке давно не слыхать. Я думал о Генуе, о своей конторе, о том, какой стала бы моя жизнь, если б схватили и меня в то утро на верфи, где работал Ремо. Через несколько дней я снова уеду в Геную, на виа Корсика. Все подходит к концу.
Кто-то бежал по дороге, вздымая пыль, я думал, собака, но это оказался мальчик, он, прихрамывая, бежал нам навстречу. Прежде чем я понял, что это Чинто, он уже прижался к моим ногам и завыл, как собачонка.
– Что случилось?
Мы ему не сразу поверили. Он твердил, что отец поджег дом.
– Не может быть! – сказал Нуто.
– Он дом поджег,– повторял Чинто.– Хотел меня убить… А сам повесился… Он дом поджег!
– Должно быть, лампу опрокинули,– сказал я.
– Нет, нет! – крикнул Чинто.– Он убил Розину и бабушку. Хотел и меня убить, но я не дался… Потом солому поджег и все меня искал. Но у меня был нож. Тогда он повесился посреди виноградника.
Чинто тяжело дышал, всхлипывал. Весь исцарапанный и перепачканный, он сидел в пыли, прижимаясь к моим ногам, и все повторял:
– Папа повесился в винограднике. Он дом поджег… И вол сгорел. Только кролики удрали. Но у меня был нож… Все сгорело. Пиола тоже видел.
Нуто взял его за плечи и поднял, как козленка:
– Он убил Розину и бабушку?
Чинто только дрожал, он не мог говорить. Нуто встряхнул его за плечи:
– Он убил их?
– Оставь его,– сказал я.– Он едва жив. Пойдем сами взглянем.
Тогда Чинто бросился к моим ногам. Он и слышать не хотел о возвращении.