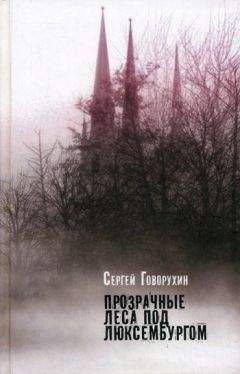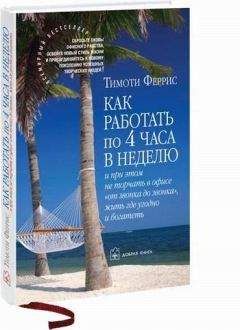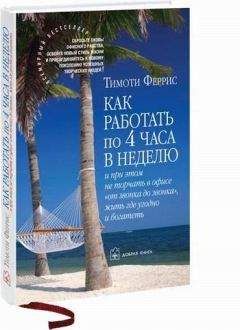Сорок лет назад так же обнимала и гладила мать. Вероятно, обнимала бы и сейчас, да как-то нам обоим неловко – она не молода и я не мальчик… Мы и говорим-то больше иносказательно.
Мой мальчик, моя звездочка обнимает меня, крепко прижимая к своему крохотному тельцу, и улыбается во сне – ему ничего не страшно рядом с таким большим и сильным человеком, как его отец. Он пока не знает, что его отец сам нуждается в защите. В защите этих маленьких ручек с неровно подстриженными ноготками.
Он и не узнает этого никогда. Скоро наступит время, когда я перестану прижиматься к нему, потому что дети всегда должны быть уверены, что самым мужественным и справедливым человеком на свете является их отец.
А отцам… А отцам до безумия хочется нежности.
И лишь у какой-нибудь тихой заводи, допивая водку из походной фляжки и глядя на одинокий, обдуваемый теплым ветром метроном поплавка, можно отпустить себя и, уронив голову на руки, заплакать о прожитой жизни, где тебе всего хватило сполна, кроме нежности, отпускаемой такими скупыми долями, словно она покоится на дне глубокого колодца, в очереди к которому можно простоять всю жизнь.
Сколько мне осталось этой нежности? Два, ну, три года, а потом? А потом сын вырастет и с точностью до жеста повторит путь своего отца.
Сыновья обречены повторять путь своих отцов. И этот круг обреченных бесконечен.
Круг обреченных… Какие явственные очертания он принял для меня.
Я ехал по Кольцевой дороге куда-то по важному делу, и в эту минуту позвонила Вера.
– Мама умерла! – закричала она. – Сереженька! Сережа!
Утром мама пошла в сберкассу. На улице у нее остановилось сердце…
Умерла Верина мама. Но сейчас я думал не о ней. О Вере. Как она там со своей болью?
Нам было необходимо свернуть с кольца и мчаться обратно, но мы стояли. По противоположной, разделенной бетонным поребриком стороне, в сопровождении джипов охраны и экскорта мотоциклистов, шла нескончаемая кавалькада черных правительственных «мерседесов». Одни по совершенно пустой трассе. С включенными габаритами при свете яркого летнего дня.
«Как она со своей болью»? – под вой сирены думал я.
Как вырваться из замкнутого круга? Может, достаточно выйти из машины, перешагнуть поребрик и оказаться на той, свободной от предрассудков стороне, не ощутив ничего, кроме пустоты…
И я остался в круге обреченных. Теперь уже навсегда.
Я писал эти записки долго. В разных местах. Дописываю сейчас, в госпитале перед очередной операцией.
Через два дня мне дадут тринадцатый по счету общий наркоз. Тринадцатый за семь лет.
Помню, как отчаянно боялся первого наркоза и, погружаясь в тягостную бездну безмолвия, думал только об одном: «А если не вернусь? Если?..»
Потом привык. Не к наркозу – к ощущению утраченной связи с окружающим миром. Что он мне? Что я ему?
Что мы друг другу?
При госпитализации попросили составить список постоянных посетителей для бюро пропусков.
– Не более десяти человек, – строго предупредили меня.
Я написал семь. Затем одного вычеркнул.
– К тебе же постоянно толпы ходят, – заметил лечащий врач.
Что я мог ему ответить? Что именно в толпе человек одинок как никогда. Что это и есть самое разрушающее, самое невыносимое одиночество – публичное.
Впрочем, это уже не мои истины.
Я бы добавил в этот список Верину маму, Володина, Глузского, Лешку Грачева, моих товарищей, разорванных полутонным фугасом у развалин Софедцанга… Но никого из них уже не было в живых.
Почему ушедшие всегда ближе живых? Потому что их уже не вернуть?
Но мы же достигли того критического перелома, когда день сегодняшний не обязательно продолжается завтрашним. И кто знает, кого мы не досчитаемся следующим утром.
В среднестатистической человеческой жизни всего два с небольшим миллиарда секунд. Ежедневно мы размениваем их на склоки, ложь, сутяжничество, безвкусицу, предательство…
Нам уже не научиться любить друг друга – хотя бы не задевать локтями.
Меня вновь зовет война. Война ли? Или то самое необъяснимое, обретенное на узких тропах памирских гор, где не было ничего надежнее спины идущего впереди товарища в промокшем насквозь, белом от пота камуфляже со стертыми капитанскими звездами на мятых погонах…
Вру. Не это меня зовет. А что-то такое, совершенно детское, не поддающееся осмыслению.
Хочется одного: вернувшись после долгих скитаний, взять такси, доехать до Речного вокзала, сесть с холодным графином водки на террасе ресторана и смотреть на заходящие в гавань пароходы. И не думать ни о чем.
Конечно, это должно быть летом, где-нибудь в августе, и на одном из пароходов должна плыть мама.
Пароход зайдет в порт и будет долго пришвартовываться среди таких же неповоротливых посудин, опасно задевая их бортами. Наконец спустят трап, мама сойдет на пристань и скажет:
– Сыночек…
И это будет истина.
Ловцы жемчуга опускаются за истиной в непредсказуемую глубину коралловых островов. А истина лежит на поверхности – занесенным случайным ветром первым осенним листком на глади сонной реки. Еще не закончилось очарование лета, а первый осенний лист уже медленно плывет мимо нас по течению реки, именуемой Время…
2002Выходные Евдокимов проводил на кладбище. Приезжал рано утром, был дотемна и уезжал с последним рейсовым автобусом. Это в субботу.
В воскресенье Евдокимов приезжал к обеду, когда иссякали толпы родственников и крадущимися тенями вползали на кладбище злобные мародерствующие старухи, подбирающие с могил цветы и венки на продажу.
Старухи, привыкнув к Евдокимову, внимания на него не обращали: возится себе на заброшенных аллеях какой-то юродивый, и Бог с ним. Евдокимов старух тоже не трогал, понимая, что мораль здесь давно преступила грань добра и зла и все, на что он может рассчитывать, – получить выразительную, перенасыщенную проклятиями матерную отповедь.
В рюкзаке у Евдокимова лежал моток стальной проволоки, детские грабли, садовые ножницы, топор, пассатижи и купленная у подвыпившего военнослужащего саперная лопатка. Иногда к рюкзаку добавлялся мешок цемента в потертой хозяйственной сумке, мастерок и банка краски. Песка же и воды на кладбище было хоть отбавляй.
Сначала Евдокимов подправлял и увязывал проволокой развалившиеся ограды, полол сорную траву, восстанавливал цементные бордюры клумб. Затем мокрой тряпкой с песком тщательно оттирал затертые временем надписи могильных плит, покрывал краской облупившиеся поверхности обелисков.
Особенно тщательно, предварительно ошкурив, покрывал Евдокимов краской выцветшие звезды на обелисках. Звезды после этого алели ярко и несозвучно торжественно и еще долго были видны в наступающих сумерках.
К полудню Евдокимов управлялся с делами, доставал из рюкзака чекушку, хлеб, крупную луковицу и кусок улежавшегося сала. Выпивал граненую стопку водки, закусывал круто посоленной луковицей, долго и равнодушно жевал бутерброды. Потом затыкал горлышко бутылки газетным кляпом и аккуратно укладывал в рюкзак – до выходных.
Горячими настойчивыми толчками водка растекалась по телу, Евдокимов доставал папиросу, разминал сухой табак и, прислонившись к чиненной ограде, закуривал. Сделав несколько затяжек, прикрывал глаза и сидел так час-полтора – спал.
Это летом.
Зимой Евдокимов на кладбище не ходил. Он ненавидел зиму.
В декабре восемьдесят третьего Евдокимов замерз в горах Полярного Урала. Под вечер, на возвышенности, посреди голой заснеженной тундры у «КРАЗа» заклинило движок. Исправить поломку Евдокимов не смог, и спастись не представлялось никакой возможности – морозы стояли под пятьдесят.
Обнаружили его утром следующего дня водители «наливников». Обмороженного, но еще живого.
Евдокимову ампутировали обе ступни, по два пальца на каждой руке и мучительно больно лоскутами сдирали с лица обмороженную кожу.
Узнав о случившемся, жена Евдокимова сложила все посильное имущество и, забрав пятилетнего сына, ушла. Да и не жена она была Евдокимову – жили вместе, не расписываясь. И ребенок этот был ее ребенком.
Вернувшись домой, Евдокимов смастерил тележку на четырех подшипниках и, отталкиваясь деревянными чурками от разбитых мостовых, ездил по городу – искал жену. Хотел вымолить у нее мальчика в обмен на все свои северные заработки, квартиру…
Женщину эту Евдокимов так и не нашел – она уехала в другой город, никому не оставив адреса, а мальчик – тихий, больной, с худыми ключицами и лазуритовыми глазками, до боли родной и любимый – всю жизнь стоял перед глазами.
Мальчик говорил ему:
– Папонька…
– Котенок мой ненаглядный, – зацеловывал его стриженную голову Евдокимов.
Он любил мальчика, как любят сумасшедшие матери единственного, рожденного в тяжких муках ребенка. Любил до нервной дрожи, трясся над ним, бережно прижимал по ночам – плоть от плоти, кровь от крови, пусть не его.