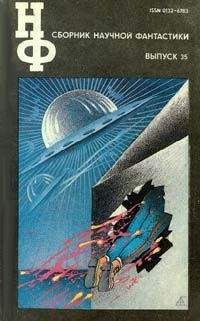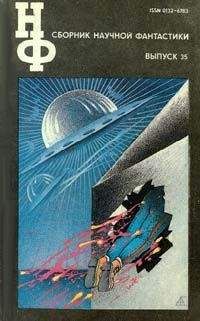– А что дальше было? – спросил Костыль.
– Все, – ответил Вася.
– А с мужиком что случилось?
– Посадили в тюрьму. За знамя.
– А со знаменем?
– Починили и назад поставили, – поразмыслив, ответил Вася.
– А когда нового директора назначили, что с ним случилось?
– То же самое.
Я вдруг вспомнил, что в кабинете у директора, в углу, стоят сразу несколько знамен с выведенными на них краской номерами отрядов; эти знамена он уже два раза выдавал во время торжественных линеек. Кресло у него в кабинете тоже было, но не зеленое, а красное, вращающееся.
– Да, я забыл, – сказал Вася, – когда мужик из-за шторы вышел, он уже весь седой был. Про желтую штору знаете?
– Я знаю, – сказал Костыль.
– Толстой, ты про желтую штору знаешь?
Толстой молчал.
– Эй, Толстой!
Толстой не отзывался.
Я думал о том, что у меня дома в Москве на окнах как раз висят желтые шторы – точнее, желто-зеленые. Летом, когда дверь балкона все время открыта и снизу, с бульвара, долетает шум моторов и запах бензиновой гари, смешанный с запахом каких-то цветов, что ли, я часто сижу возле балкона в зеленом кресле и смотрю, как ветер колышет желтую штору.
– Слышь, Костыль, – неожиданно сказал Толстой, – а в мертвецы не так принимают, как ты думаешь.
– А как? – спросил Костыль.
– Да по-разному. Только при этом никогда не говорят, что принимают в мертвецы. И поэтому мертвецы потом не знают, что они уже мертвые, и думают, что они еще живые.
– Тебя что, уже приняли?
– Не знаю, – сказал Толстой. – Может, уже приняли. А может, потом примут, когда в город вернусь. Я ж говорю, они не сообщают.
– Кто «они»?
– Кто-кто. Мертвые.
– Ну ты опять за свое, – сказал Костыль, – заткнулся бы. Надоело уже.
– Во-во, – подал голос Коля. – Точно. Надоело.
– А ты, Коля, – сказал Костыль, – все равно завтра в рог получишь.
Толстой немного помолчал.
– Самое главное, – опять заговорил он, – что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы.
– Как же они тогда принимают? – спросил Костыль.
– Да как хочешь. Допустим, ты про что-то у кого-нибудь спросил или включил телевизор, а тебя на самом деле в мертвецы принимают.
– Я не про это. Они же должны знать, что они кого-то принимают, когда они принимают.
– Наоборот. Как они могут что-то знать, если они мертвые.
– Тогда совсем непонятно получается, – сказал Костыль. – Как тогда понять, кто мертвец, а кто живой?
– А ты что, не понимаешь?
– Нет, – ответил Костыль, – выходит, нет разницы.
– Ну вот и подумай, кто ты получаешься, – сказал Толстой.
Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то с силой стукнулось о стену над самой головой Толстого.
– Идиот, – сказал Толстой. – Чуть в голову не попал.
– А мы все равно мертвые, – сказал Костыль, – подумаешь.
– Мужики, – опять заговорил Вася, – про желтую штору рассказывать?
– Да иди ты в жопу со своей желтой шторой, Вася. Сто раз уже слышали.
– Я не слышал, – сказал из угла Коля.
– Ну и что, из-за тебя все слушать должны? А потом опять к Антонине побежишь плакать.
– Я плакал, потому что нога болит, – сказал Коля. – Я ногу ушиб, когда выходил.
– Ты, кстати, рассказывать должен был. Ты тогда заговорил первый. Думаешь, мы забыли? – сказал Костыль.
– Вместо меня Вася рассказал.
– Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь. А то завтра точно в рог получишь.
– Знаете про черного зайца? – спросил Коля.
Я почему-то сразу понял, о каком черном зайце он говорит – в коридоре перед столовой среди прочего висела фанерка с выжженным зайцем в галстуке. Из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем черным.
– Вот. А говорил, не знаешь ничего. Давай.
– Был один пионерлагерь. И там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был черный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты два гвоздя. И однажды шла мимо одна девочка – с обеда на тихий час. И ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. И ей вдруг показалось, что черный заяц на нее смотрит, словно он живой. Но она решила, что это ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час. И сразу же все, кто был в этом лагере, заснули. И им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать все как обычно – играть в пинг-понг, читать и так далее. А это им все снилось. Потом кончилась смена, и они поехали по домам. Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. А на самом деле они просто спали в палатах этого пионерлагеря. И черный заяц все время бил в свой барабан.
Коля замолчал.
– Что-то непонятно, – сказал Костыль. – Вот ты говоришь, что они разъехались по домам. Но ведь там у них родители, знакомые ребята. Они что, тоже спали?
– Нет, – сказал Коля. – Они не то что спали. Они снились.
– Полный бред, – сказал Костыль. – Ребят, вы что-нибудь поняли?
Никто не ответил. Похоже, почти все уже заснули.
– Толстой, ты понял что-нибудь?
Толстой заскрипел кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю.
– Ну и сволочь ты, – сказал Коля. – Сейчас в морду получишь.
– Отдай сюда, – сказал Костыль.
Это был его кед, которым он перед этим швырнул в Толстого.
Коля отдал кед.
– Эй, – сказал мне Костыль, – ты чего молчишь все время?
– Так, – сказал я. – Спать охота.
Костыль заворочался в кровати. Я думал, он скажет что-то еще, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася.
Я глядел в потолок. За окнами качалась лампа фонаря, и вслед за ней двигались тени в нашей палате. Я повернулся лицом к окну. Луны уже не было видно. Вокруг было совсем тихо, только где-то очень далеко барабанной дробью стучали колеса ночной электрички. Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как заснул.
Китайская народная сказка
Как известно, наша вселенная находится в чайнике некоего Люй Дун-Биня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньани. Но вот что интересно: Чаньани уже несколько столетий как нет, Люй Дун-Бинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплющился в лепешку под землей. Этому странному несоответствию – тому, что вселенная еще существует, а ее вместилище уже погибло, – можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение: еще когда Люй Дун-Бинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньани, зарастала травой его собственная могила, люди запускали в космос ракеты, выигрывали и проигрывали войны, строили телескопы и танкостроительные...
Стоп. Отсюда и начнем. Чжана Седьмого в детстве звали Красной Звездочкой. А потом он вырос и пошел работать в коммуну.
У крестьянина ведь какая жизнь? Известно какая. Вот и Чжан приуныл и запил без удержу. Так, что даже потерял счет времени. Напившись с утра, он прятался в пустой рисовый амбар на своем дворе – чтобы не заметил председатель, Фу Юйши, по прозвищу Медный Энгельс. (Так его звали за большую политическую грамотность и физическую силу.) А прятался Чжан потому, что Медный Энгельс часто обвинял пьяных в каких-то непонятных вещах – в конформизме, перерождении – и заставлял их работать бесплатно. Спорить с ним боялись, потому что это он называл контрреволюционным выступлением и саботажем, а контрреволюционных саботажников положено было отправлять в город.
В то утро, как обычно, Чжан и все остальные валялись пьяные по своим амбарам, а Медный Энгельс ездил на ослике по пустым улицам, ища, кого бы послать на работу. Чжану было совсем худо, он лежал животом на земле, накрыв голову пустым мешком из-под риса. По его лицу ползло несколько муравьев, а один даже заполз в ухо, но Чжан даже не мог пошевелить рукой, чтобы раздавить их, такое было похмелье. Вдруг издалека – от самого ямыня партии, где был репродуктор, – донеслись радиосигналы точного времени. Семь раз прогудел гонг, и тут...
Не то Чжану примерещилось, не то вправду – к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли два толстых чиновника в темных одеждах, с квадратными ушами и значками в виде красных флажков на груди, а в глубине машины остался еще один, с золотой звездой на груди и с усами как у креветки, обмахивающийся красной папкой. Первые двое взмахнули рукавами и вошли в амбар. Чжан откинул с головы мешок и, ничего не понимая, уставился на гостей.
Один из них приблизился к Чжану, три раза поцеловал его в губы и сказал:
– Мы прибыли из далекой земли СССР. Наш Сын Хлеба много слышал о ваших талантах и справедливости и вот приглашает вас к себе. Скатертью хлеб да соль.