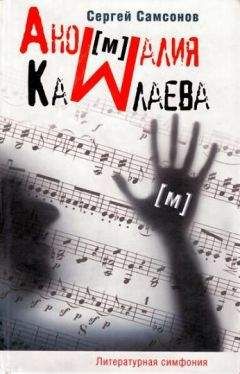— Да что с тобой такое?.. Ты чего?.. Тебе что — противно?
— Да с чего ты взяла? — отвечал он, автоматически оглаживая ее напрягшуюся спину.
— Да с того взяла, что ты не хочешь!
— Хочу.
— Хочешь? Да ты на свою морду посмотри! Живее в гроб кладут! Хочет он! А то я не знаю, когда и как он хочет! — Она была камлаевским бесчувствием оскорблена — не отсутствием тех узкофизиологических реакций, каковыми отзывается мужская плоть на мануальную и оральную стимуляцию, а тем, что он все это время (с самого утра) как будто бы отсутствовал и не вернулся к ней даже тогда, когда они плюхнулись в постель… Невидящий взгляд, неподвижное лицо, тупое равнодушие — все это оскорбило Юльку до самой глубины простецкой ее души: ее впервые в жизни не хотели, и разве могла она это Камлаеву спустить? Тот факт, что камлаевский уд, как будто приобретший пугающую независимость от всего остального тела, все ж таки поддался на Юлькины «уговоры» и самостийно вздыбился, а вот лицо Камлаева осталось все таким же неподвижным, еще больше разъярило Юльку, лишь добавило масла в огонь. — Что с тобой?! Что такого со мной?! Что не так?! Да все так! У тебя вот здесь только… — она шлепнула его ладонью по лбу, — все не так! Ну, почему ты не можешь быть человеком, почему ты не скажешь хоть раз по-человечески?.. Разлегся здесь, дрянь, и лежит! И все ему без разницы… ну, все ему без разницы! Как дебилу, у которого торчит, и он даже не понимает, что это такое! Ну, скажи ты — «не сейчас», и все!
— Ну, почему не сейчас? Можно и сейчас.
— Ах ты дрянь, ах ты сука!.. сука! сука! сука!.. — Она била его уже кулаками в грудь, а Камлаев с непроницаемой тупостью, с непроходимым стоицизмом все эти удары и шлепки выносил… — Ну, что же ты такая-то свинья? Сам сказал «приезжай», я все бросила… Я к нему полетела, потому что хотела быть с ним, потому что поверила… он умеет в этом убедить, что ты ему нужна, сука, тварь! Ну, зачем ты тогда сказал «приезжай»? Какого я приехала?! Чтобы смотреть в твои пустые псиные глаза, чтобы видеть, как ты тупишь, по полчаса разглядывая какую-нибудь рюмку в ресторане?! Чтобы смотреть на тебя и видеть, как ты думаешь о жене? Если хочешь быть с ней, то и будь! Но ты-то хочешь и с ней, и со мной! Ты с другим человеком вообще быть умеешь? Уважать его — я уже не говорю любить! Импотент — ну, не можешь — так и скажи! — Юлька слезла, свалилась с Камлаева и уткнулась лицом в подушку.
«Что и требовалось доказать», — подумал он, глядя на свое восставшее и теперь уже постепенно поникающее достоинство. Вопиющий раздрай между этой локальной, местечковой готовностью и общей безжизненностью, пустотой внутри отчасти даже напугал его — «как дошел ты до жизни такой?», — но страх этот был таким слабым, таким относительным, что скоро совершенно стерся, как будто Камлаев его и не испытывал вовсе.
4. «Эй, Бетховен, отвали!», или Вторая песнь невинности, она же опыта. 196… год
— Смена позиции, я сказал, смена позиции!..
От этюдов из «Искусства беглости пальцев», от многочасовой муштры мозг его покрывался будто известковой корой, и извлекаемые Матвеем звуки металлическими шариками стукались об эту непроницаемую оболочку. И бесчувственность эта вступала в гнетущий и даже оскорбительный разлад с той живостью, с той бешеной скоростью, которую развивали его дрессированные пальцы.
— …Здесь не надо molto, здесь надо presto. — Полгода назад сменивший Мирославу Леонидовну Эжен Альбертович — увлеченный садист, гестаповец, которому недоставало лишь монокля и стека, — все натягивал удила, все подхлестывал, гнал и гнал Матвея вперед, приучая и зависеть, и ненавидеть, и терпеть. — Темп! Темп! Темп!..
С этим темпом время тянулось, как на приеме у стоматолога. И, прикованный к табурету, Матвей все пришпоривал себя, вскачь пуская и загоняя двух своих пятиногих, пятипалых лошадей. Отпорхав, отбегав и весь в мыле, добирался он до конца этюда лишь затем, чтобы тут же, без роздыха, без перерыва впрячься в следующий. Все сорок восемь «в форме прелюдий и каденций», они вытягивались в дурную бесконечность, не имеющую обрыва и конца цепочку маленьких мучений, по отдельности вполне переносимых — в совокупности несносных.
Отыграв положенное, завершив все это музыкальное мучительство, получал он незначительную, короткую передышку и, когда деликатный Эжен Альбертович выходил в коридор покурить, принимался молотить по клавишам от края до края. Он еще мог простить им то, что в свое время они лишили его, Матвея, велосипеда и футбола, но нынешнего монашества, которое, по всей видимости, обещало быть вечным, — уже решительно не мог. Об утраченном велосипеде, о футболе во дворе позволительно жалеть, когда ты в четвертом, пятом… ну, максимум в шестом классе, а вот когда тебе пятнадцать, то впору сокрушаться совершенно о другом.
За окном закипала под ветром грузно набухшая сирень, то трещала и гнулась, то ворочалась лениво и тяжело; сквозь открытую фрамугу струился отдающий чернилами запах лиловых кистей, и весь воздух за окном и внутри был пропитан сиреневым духом. И к пьянящему этому духу, от которого раздувались ноздри, добавлялось неистовое чириканье ошалевших от свободы воробьев. Вот ведь счастливые твари — не сеют, не жнут, не собирают в житницы, никому не нужны, но и им никто не нужен! О, недоступная свобода, о, тщета, о, невозможность уподобиться пернатым горлопанам! Камлаев сетовал и завывал, роптал и вопил, как брачующийся павиан, лишенный смотрителями зоопарка вожделенной самки.
В Мерзляковской школе, куда Матвей перешел после седьмого класса, девочек хватало.
Ну, то есть в Матвеевом-то классе их было, собственно, две — толстоногая, сдобная пышечка Ариадна Турсун-заде и чернявая, тонкая, нервная, с неизменно насупленными бровями Сонечка Рашевская. И обе они нравились Матвею не очень чтобы очень. «Ариаднина нить» несомненно вела в тупик, в жирный чад пропахшей пирожками бабушкиной кухни. А Сонька была плоскогрудой, вздорной истеричкой, к тому же ненавидела Матвея «всеми фибрами души» — как своего прямого и наиболее опасного конкурента, которого осенью отправляли в Брюссель на конкурс королевы Елизаветы — доказывать, что советская музыкальная школа сильна как никогда и по-прежнему лучшая в мире.
Но были и другие. В параллельных классах. И если бы не Матвеев график подготовки, из которого он права не имел выпадать, и если бы не полное отсутствие свободного от репетиций времени, Матвей очень скоро воплотил бы в действительность свое невыносимое желание залезть кому-нибудь под юбку. Ни неизменная сумрачная неприступность Гальки Заворотнюк, ни походя равняющий тебя с землей насмешливый прищур Наташки Половцевой нисколько его не страшили. В собственных глазах Матвей обладал всесокрушающей мощью любовного локомотива.
И прекрасное, и дерьмовое наделены одной примиряющей способностью — однажды заканчиваться. Отмучившись, Матвей едва удержался от того, чтобы пулей пролететь по коридору. Вышел сдержанно, чинно. Эх, наполнить бы криком всю гулкую пустоту безлюдных помещений! Непристойно кощунственным и неслыханным в этих стенах покореженным электрическим ревом, от которого рухнет, как скала от детонации, весь замшелый, дремучий, нафталиновый академизм! Нет, в Скрябине, конечно, было истинное парение, но при занятиях из-под палки оно выхолащивалось до затхловатого ветерка. А вот если бы Матвею дали полную свободу, тогда-а-а… Он как будто влепился в невидимую стену. Разбросав по всему подоконнику здоровущие, лосьи ноги, под лестницей курил первокурсник Алик Раевский. Матвей так и вперился в его мускулистые ляжки, обтянутые голубой джинсовой тканью. И не каким-нибудь индийским «Милтонсом», а самым что ни на есть фирмовым, непредставимым классическим пятикарманным Levis'ом.
— О, Камлайка! — отпрянул от неожиданности Раевский. — Дай пять, Мэтью! — повелел он зычным басом, и Матвей, хоть было и не в новинку, но все же до жара, до красноты в ушах польщенный, протянул Раевскому ладонь. — А тебя, я смотрю, все гоняют, как цирковую лошадь по кругу.
Матвей издал в ответ досадливое «а-а…» и отмахнулся. На лицо он натянул маску досады, но при этом почувствовал себя польщенным: что и говорить, одно только обращение к нему Алика — самого что ни на есть стильного чувака, вызывавшего у всех девушек Мерзляковки томительно-сладостное ожидание сексуального чуда, — дорогого стоило и заставляло сердце обливаться горячей благодарностью. «Фирмовые» Аликовы джинсы, остроносые, из светлой замши ботинки, коричневый замшевый клифт, рубаха из черного шелка с широченными отворотами высокого стоячего воротника, вороная, отливающая сталью шевелюра почти до плеч и репутация рокового соблазнителя — все это создавало вокруг Алика ореол исключительности, избранничества и невиданного превосходства над всеми прочими. Лениво-снисходительное превосходство ощущалось в каждом жесте, в каждом слове Раевского; говорил он, как правило, нехотя, со столь явным нежеланием разлепляя губы, что тотчас же ясно становилось — он делает собеседнику величайшее одолжение. Всем известно было, что, помимо занятий по классу трубы, Раевский овладевает приемами игры на запрещенной всем студентам электрогитаре.