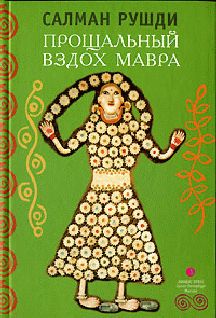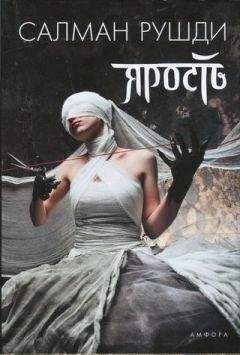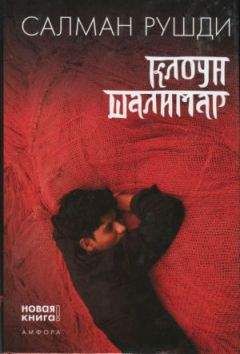И там-то, наверху, под самой крышей склада? 1, пятнадцатилетняя Аурора да Гама возлегла на мешки с перцем и, дыша жарко-пряным воздухом, замерла в ожидании Авраама. Он взошел к ней, как мужчина восходит к судьбе своей, с дрожью и решимостью, и вот именно здесь слова меня покидают, и поэтому вы не услышите от меня кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и наконец, и еще после, и до тех пор, пока… уф! Хватит! Кончено с этим! – И все же нет. Осталось еще кое-что. Рассказывать, так до конца.
Скажу вот что: жарким и жадным было то, что случилось у них. Бешеная любовь! Она подвигла Авраама на битву с Флори Зогойби, и она же заставила его покинуть свое племя, дав оглянуться лишь однажды. «Чтоб за эту милость немедленно он принял христианство», – потребовал венецианский купец в час своего торжества над Шейлоком, демонстрируя лишь весьма ограниченное понимание милосердия; и дож согласился: «Быть по сему: иначе отменю я прощение, что даровал ему». [38] К чему Шейлока принудили силой, на то Авраам, которому любовь моей матери стала дороже любви Господней, был готов пойти добровольно. Он собирался жениться на ней по законам Рима – о, какая буря скрывается за этими словами! Но их любовь была достаточно сильна, чтобы противостоять всем ударам судьбы, чтобы выдержать натиск разбушевавшегося скандала; память об их стойкости придала стойкости и мне, когда я, в свой черед… когда мы с любимой… но в ответ на это она, моя мать… вместо того, чтобы… а я-то рассчитывал… она разгневалась на меня и, когда я больше всего в ней нуждался, она… на свою родную плоть и кровь… вы видите, я и ту, другую историю не в силах рассказывать. Слова вновь покинули меня.
Перечная любовь – так я ее называю. Перечная любовь охватила Авраама и Аурору там, на мешках с золотом Малабара. Когда они сошли наконец с груды специй, пряный запах успел пропитать отнюдь не только одежду любовников. Так страстно впивались они друг в друга, до такой степени перемешались их пот, кровь и сокровенные выделения тел, настолько сроднились он и она в этой душной атмосфере, насыщенной запахом кардамона и тмина, не только друг с другом, но и с тем, что витало в воздухе, и с самим содержимым мешков – иные из них, надо сказать, они разорвали и плющили высыпавшиеся зерна перца и кардамона меж стиснутых животов, бедер, ног, – что навсегда с той поры не только их пот стал отдавать перцем и пряностями, но и прочие телесные жидкости приобрели запах и даже вкус того, что они втерли тогда в свою кожу, что растворилось в их любовных соках, что вдохнули они вместе с воздухом во время этого немыслимого совокупления.
Вот так-то; если предмет занимает тебя достаточно долго, в конце концов какие-то слова приходят. Но сама Аурора говорила на эту тему без всякого стеснения:
– И всегда с той поры, доложу я вам, мне приходится держать моего Ави подальше от кухни, потому что стоит ему учуять этот запах специй, когда их мелют, – ну, милые, он землю тогда начинает рыть копытом. А что до меня – я моюсь-размываюсь, душусь и притираюсь, лишь потому, мои друзья, свежа и всем приятна я.
Отец, отец, ну почему ты ей разрешал так с тобой обращаться, почему ты позволил ей сделать тебя вечной мишенью для насмешек? Почему мы – все остальные – позволили ей это в отношении нас? Неужели ты все еще так сильно ее любил? Было ли любовью то, что мы к ней чувствовали тогда, или же просто давним ее превосходством над нами, которое мы, безропотно мирясь со своим порабощением, безропотно принимали за любовь?
x x x
– С этого дня я всегда буду о тебе заботиться, – сказал мой отец моей матери после первой их близости. Но она ответила, что уже становится художницей и поэтому о самом важном в себе способна позаботиться сама.
– Тогда, – сказал Авраам смиренно, – я позабочусь о менее важном, о той части, которая нуждается в еде, отдыхе и удовольствии.
x x x
Люди в конических китайских шляпах медленно плыли на плоскодонках через темнеющую лагуну. Красно-желтые паромы в последний раз за день неторопливо перемещались между островами. Кончила работать землечерпалка, и без ее бум-яка-яка-яка-бум над гаванью повисла тишина. Покачивались стоящие на якоре яхты, и суденышки с парусами, сшитыми из лоскутов кожи, направлялись домой, в деревню Вайпин; кое-где виднелись буксиры, гребные и моторные лодки. Авраам Зогойби, оставив позади призрак матери, пляшущей на крыше в еврейском квартале, шел в церковь св. Франциска на свидание с любимой. На берегу были развешаны на ночь сети рыбаков-китайцев. Кочин, думалось ему, город сетей, и я тоже попал в сеть, словно какая-нибудь рыба. В угасающем свете призрачно парили двухтрубные пароходы, торговое судно «Марко Поло» и британская канонерка. Все как обычно, удивлялся Авраам. Как это мир ухитряется сохранять иллюзию постоянства, когда в действительности все стало иным, все необратимо переменилось силою любви?
Может быть, размышлял он, дело в том, что нам вообще трудно принять непривычное, иное. Если не лгать самим себе, то человек, одержимый любовью, заставляет нас вздрагивать; он подобен лунатику, разговаривающему с незримым собеседником в пустом дверном проеме, или смотрящей на море сумасшедшей женщине с огромным мотком бечевки на коленях; мы бросаем на них взгляд и проходим мимо. И сослуживец, о чьих необычных сексуальных склонностях мы случайно узнаем, и ребенок, раз за разом повторяющий бессмысленное для нас сочетание звуков, и увиденная в освещенном окне красивая женщина, позволяющая собачке лизать свою обнаженную грудь; ох, и блестящий ученый, который на вечеринке забивается в укромный угол, чешет там задницу и затем тщательно обследует свои пальцы, и одноногий пловец, и… Авраам остановился и покраснел. Куда увели его мысли! До нынешнего утра он был самым методичным и аккуратным из людей, живущим лишь бухгалтерскими книгами и колонками цифр, а теперь, Ави, только послушай сам, что ты мелешь, что за немыслимый вздор ты несешь, а ну прибавь шагу, не то дама явится в церковь раньше тебя, и помни, что отныне всю жизнь тебе придется лезть из кожи вон, только бы не заставить ждать свою благоверную…
…Пятнадцать лет! Ничего, ничего. В наших краях это не такой уж юный возраст.
x x x
А в церкви св. Франциска: кто это там тихонько постанывает? Кто этот рыжеволосый бледный коротышка, яростно скребущий ногтями кисти рук с тыльной стороны? Кто сей кривозубый херувим, у которого по брючине стекает пот? Священник, господа. А кого вы предполагали увидеть в этих стенах, если не смирного пса в воротнике ошейником? Нашего зовут Оливер д'Эт, это молодой кобелек прекрасной англиканской породы, не так давно с парохода и страдающий в индийском климате фотофобией.
Он прятался от лучей солнца, как от чужих злобных собак, но они все равно до него добирались, вынюхивали его, в какую конуру он ни заползал в поисках тени. Огненные псы тропиков норовили застать его врасплох, они налетали стаей и вылизывали его с ног до головы, как он ни молил о пощаде; и мигом кожа сплошь покрывалась мелкими, словно в шампанском, аллергическими пузырьками, и, как шелудивая шавка, он начинал скрестись, не в силах сдержаться. Воистину он был затравлен неимоверным полыханием дней. Ночами ему снились облака, все нежные оттенки серого в низеньком уютном небе дальней родины; а помимо облаков – потому что, хоть солнце и заходило, тропический жар продолжал терзать его чресла – помимо них еще девушки. Точнее, одна высокая девушка, которая приходила в церковь св. Франциска в красной бархатной юбке до пят и наброшенной на голову совершенно неангликанской белой кружевной мантилье, девушка, из-за которой одинокий молодой пастор исходил потом, уподобляясь прохудившемуся водяному баку, из-за которой его лицо приобретало в высшей степени церковный пурпурный оттенок.
x x x
Она приходила раз или два в неделю посидеть у пустой гробницы Васко да Гамы. Стоило ей впервые горделиво пройти мимо д'Эта, подобно императрице или великой трагической актрисе, как он был сражен. Он еще не видел ее лица, а его собственное лицо уже изрядно налилось пурпуром. Потом она к нему повернулась, и он словно утонул в солнечном сиянии. Мигом на него напал зуд, и он залился потом; шея и кисти рук горели, несмотря на взмахи подвешенных к потолку больших опахал, медленно реявших наподобие женских волос. Чем ближе подходила Аурора, тем хуже ему становилось: жестокая аллергия желания.
– Вы похожи, – сказала она сладким голосом, – на красное ракообразное. И еще на блошиный стадион после того, как все блохи разбежались. А воды-то, воды! Стоит ли завидовать бомбейцам с их фонтаном Флоры, когда в наших владениях есть вы, ваше преподобие?