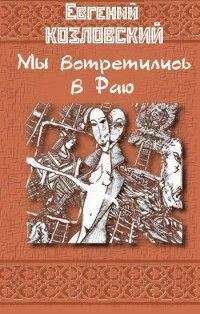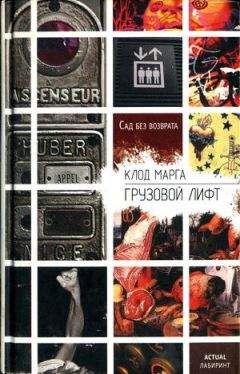Глава двенадцатая
ЗЕРКАЛО В ПРОСТЕНКЕ
Стихи на случай сохранились,
Я их имею; вот они…
А. Пушкин
* * *
С бородой как с визитной карточкой
я пришел в незнакомый дом.
Волны дыма стол чуть покачивали,
а бутылки со Знаком качества
наводили на мысль о том,
что веселье — порядком пьяное,
что не слишком мудр разговор.
И, шипя об огрызок яблока,
сигарета гасла, и въябывал
в магнитоле цыганский хор.
Постепенно и я накачивался,
я поддерживал каждый тост,
а соседка — девица под мальчика —
ела кильку, изящными пальчиками
поднимая ее за хвост.
А потом мы с соседкой болтали, и
я не помню, когда и как…
в ванной, кажется… как же звали ее?
У нее была теплая талия
и холодный металл на руках,
у нее были пальцы ласковые,
лепетала: кто без греха?!
Утром впору было расплакаться:
только запах кильки на лацкане
югославского пиджака.
Нынче в ад попадают проще:
фиг ли петь — пятак в турникет —
и спускаешься в Стиксовы рощи
к пресловутой подземной реке.
Вот перрона асфальтовый берег,
вот парома электрорёв.
Закрываются пневмодвери,
и Харон говорит: вперёд!
Понимая, как это дико,
я, настойчивый идиот,
тупо верю, что Евридика
на конечной станции ждет.
Я сумею не обернуться,
не забуду, что бог гласил,
только в два конца обернуться
мне достанет ли дней и сил?
Разевается дверь, зевая,
возникает передо мной
«Комсомольская-кольцевая»
вслед за «Курскою-кольцевой».
Мне не вырвать ее отсюда,
не увидеть ее лица,
и ношусь, потеряв рассудок,
по кольцу — до конца — без конца.
Ну что вы все глядите на меня?
А разве мог я поступить иначе?
Извольте: я попробовал, я начал:
во рту ни крошки за четыре дня,
и никакой работы! Деньги значат
гораздо больше, чем предположить
умеем мы, когда живем в достатке.
Я заложил последние остатки
добра, когда-то нажитого. Жить —
во-первых — жрать! А если корки сладки —
все принципы — пустая болтовня.
Ну что вы все глядите на меня?
Я сделал что-то страшное? Продался?
Но я остался тем же: те же пальцы
и тот же мозг! Так в чем моя вина?
Ведь мы меняем кожи, а не души!
Ужам — и тем дозволено линять!
В конце концов, могу я быть послушен
наружно только, и оставить детям
правдивый очерк нашего столетья
(пусть — поначалу — тайный)? Разве лучше,
себя тоской и голодом замучив,
навек задуть ту искорку огня,
которая подарена мне? Кто-то
остаться должен жить, чтобы работать?!
Ну что вы все глядите на меня?
КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
Я не моту не выйти на эстраду,
а выйти на эстраду — не могу…
В концертном фраке, хоть персона грата,
я беззащитней птицы на снегу.
Я знаю все заранее. Я ясно,
отчетливо предчувствую беду:
сейчас гобой настройку даст; погаснет
последний шум; я встану и пойду;
пойду, стараясь не задеть пюпитров,
пойду подробно: не паркетом — льдом,
и подойду к роялю; тихо вытру
платком уже вспотевшую ладонь;
рояль молчит; он, кажется, покорен
(я наблюдал за ним из-за кулис);
я стану; в обязательном поклоне
я гляну в зал, но не увижу лиц;
я долго не смогу усесться; свора
оркестра станет в стойку на прыжок,
и над оркестром, как ученый ворон,
раскинет крылья фрака дирижер;
почувствовав спиной его фигуру
в холодной, леденящей тишине,
я брошу пальцы на клавиатуру…
Но та, мертва, не отзовется мне.
Как подходил когда-то Каин к брату,
так я к роялю: идолу, врагу…
Я не могу не выйти на эстраду,
а выйти на эстраду — не могу.
Все чаще я гляжу на старую картину,
что чудом до меня дошла сквозь три войны:
на ней изображен сидящим у камина
мой родственник: мой дед с отцовской стороны.
Устроясь в глубине удобных мягких кресел,
полузакрыв глаза и книгу отложив,
он смотрит на огонь и, вероятно, грезит
о чем-то, что прочел, о чем-то, что прожил.
Должно быть, он сидит в своей библиотеке:
по стенам стеллажи шпалерами из книг,
и даже слышно мне: идут в минувшем веке
напольные часы: тик-тик, тик-так, тик-тик…
Нет в дедовом лице ни жесткости, ни злости:
спокойные и чуть усталые черты.
На столике лежит кинжал слоновой кости,
чтоб в книгах разрезать пахучие листы.
И тут же на столе — журнальная подшивка,
коробка с табаком, букетик поздних роз
и для набивки гильз мудреная машинка:
мой дед не выносил готовых папирос.
Мы в возрасте одном, и я похож на деда
фигурою, лицом и формой бороды,
и иногда, скользнув глазами по портрету,
друзья мне говорят: Арсений, это — ты.
Ну да! Конечно — я: с моею вечной спешкой,
пропахший табаком болгарских сигарет,
всегда бегущий и повсюду не успевший,
стремящийся к тому, чего в помине нет.
И ежели меня запечатлеет кто-то,
то вряд ли изберет модерный стиль «ретро»,
а, бросив холст и кисть, отшлепает мне фото:
С газетою в руках на лестнице метро.
Они плывут. Веками — всё в пути.
И неисповедимы их пути.
Арго так легок, что не канет в Лету.
А вечерами юный полубог
выходит посидеть на полубак
и выкурить при звездах сигарету.
Они плывут. Колхида и руно,
и гибель их — все будет так давно,
что даже мысль об этом несерьезна.
Волна качает люльку корабля,
а им ночами грезится земля,
достичь которой никогда не поздно.
* * *
Я ехал на восток, и солнца стоп-сигнал
на кончике руля дрожал и напрягался.
Я не хотел менять ни скорости, ни галса,
а солнечный огонь слепил меня и гнал.
Превозмогая мрак, холодный ветер, дождь,
он за моей спиной висел метеозондом,
но он же обещал: спеши! за горизонтом,
надежду потеряв, свободу обретешь!
Мне ветер в уши пел, услужливый фискал,
но я и не мечтал о сказочной принцессе.
Цель моего пути была в его процессе.
Она годилась мне. Я лучшей не искал.
Начало позабыв, не зная о конце,
я чувствовал почти восторг самоубийства,
хоть и не видел, как багровый зайчик бился,
мотался на моем обветренном лице.
А мотоцикл дрожал. Горбатая земля
клубилась подо мной
в Эйнштейновом пространстве.
Я ехал на восток, и муза дальних странствий
чертила алый круг на зеркале руля.
* * *
Водка с корнем. Ананас.
Ветер. Время где-то между
псом и волком. А на нас
никакой почти одежды,
лишь внакидочку пиджак.
И за пазухою, будто
два огромные грейпфрута,
груди спелые лежат.
* * *
Голову чуть пониже,
чуть безмятежней взгляд!.. —
двое в зеркальной нише
сами в себя глядят.
Может быть, дело драмой
кончится, может, — нет.
Красного шпона рамой
выкадрирован портрет.
Замерли без движенья.
Точно в книгу судьбы,
смотрятся в отраженье,
и в напряженье — лбы.
На друга друг похожи,
взглядом ведут они
по волосам, по коже,
словно считают дни,
время, что им осталось.
И проступают вдруг
беззащитность, усталость,
перед судьбой испуг.
Рама слегка побита,
лак облетел с углов:
ломаная орбита
встретившихся миров.
Гаснут миры. Огни же
долго еще летят.
Двое в зеркальной нише
сами в себя глядят.
* * *
Я не то что бы забыл —
никогда я и не ведал:
нет ни в Библии, ни в Ведах
слова странного: Амыл.
За окошком свет зачах,
обрываются обои,
навзничь мы лежим с тобою,
только что не при свечах.
Город медленно затих,
время — жирным шелкопрядом.
Мы лежим с тобою рядом,
и подушка на двоих.
Привкус будущей судьбы,
запах розового мыла —
от гостиницы «Амыла»
две минуточки ходьбы.