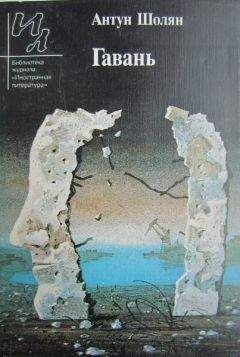Слободан решил зайти к старику Казаичу. Чтобы посоветоваться? Нет. Вконец измученный, он жаждал хлебнуть оптимизма из источника, который ни долгая жизнь учителя, ни его занятия историей не смогли замутить.
Казаич сидел за посеревшим от времени дощатым столом, заваленным мятыми, покрытыми каракулями листками дешевой бумаги, и хлебал холодную фасолевую похлебку из алюминиевого солдатского котелка (все мы воины грядущего, мой мальчик!). Бумажки были явно разного происхождения и возраста, судя по нюансам желтоватых и серых подтеков, а чернила, которыми Казаич выписывал свои крупные буквы, пропитывали их насквозь. Виднелись на листочках и жирные пятна, оставленные едой или натекшим с лампы керосином.
История Мурвицы, несомненно, продвигалась вперед, конечно на свой манер. Я принес материал для одной из ее заключительных глав, подумалось Слободану.
Он изложил учителю ситуацию. Рассказывая, он не мог отвести глаз от старика, который с завидным аппетитом отправлял в рот ложки холодной фасоли и время от времени обтирал руки о карманы куртки.
— Я нисколько не сомневаюсь, — сказал Казаич, — что в данном случае мы имеем дело с произведением самобытной хорватской архитектуры, так сказать романский стиль, десятый век, чем раньше, тем лучше для нас, не так ли? — и я все это укажу в своей рукописи. Но пока моя версия еще не стала доказанным историческим фактом, тебе все же вернее считать капеллу творением некоего неизвестного итальянского зодчего. Но на хорватской почве. Они все присваивают, все присваивают.
— Нечего им будет присваивать, — сказал Слободан, — если ее снесут.
— Где-то у меня тут была одна выписка, — Казаич стал рыться в бумажках, видимо, без всякой надежды отыскать нужный листок, — из дубровницкого морского архива. Капелла святого Анты упоминается в восемнадцатом веке в качестве навигационного знака. Первоначально она была сложена из белого камня, а потом уже, как полагалось, ее неоднократно красили белой краской. Так она занесена и в лоции. Не могу найти, куда она завалилась, шельма. Должна быть где-то тут, тут.
Он перекладывал бумажки, передвигал фонарь, котелок, грязную ложку.
— Да это не так уж важно, — сказал Слободан, желая помочь старику и прекратить эти напрасные поиски. — Важно то, что капеллу намереваются снести. Что мне делать, учитель? Вы должны понять, в какую я угодил историю. Этот Грашо — фанатик, сумасшедший. Ему дела нет до капеллы, ни капельки, ему важно только командовать. Он хочет сломить здешних жителей. Действовать твердой рукой. Всех нас запугать. Продемонстрировать свою волю, вот что важно.
— Да, — произнес Казаич, почесывая голову, — да, проблем хватало всегда. Даже в светлейшие минуты истории власть диктовала свои законы. Действия власти и цели часто не совпадают. Но что поделаешь! Такие проблемы были еще во время римских императоров! И даже у тех, которые очень хорошо мыслили! Потерпи, мой мальчик, потерпи, будет лучше. Per aspera ad astra[19]. Знаешь, как говорил Тацит: надо всем сердцем желать благородных императоров, но выносить любых, какие бы они ни были.
— Да при чем тут императоры! Речь идет о Грашо! С чего я должен ему за здорово живешь уступать часовню, чтоб он ее запросто сжевал на завтрак? Схрупает ее и даже не заметит. И найдет новый случай, чтобы окончательно меня уничтожить, о чем мечтает с самого начала.
— Слободан, мальчик мой, ты слишком собой занят. Все это личные дела, мелочные дела. Через это надо переступить в интересах общего блага. Ты слишком честолюбив, считаешь себя чересчур важным. Скромности тебе недостает, скромности в свете исторических задач! Что значит какой-то Слободан или какой-то Казаич! Впрочем, где-то здесь у меня выписана еще одна цитата из Тацита, подожди немного. — На этот раз из кучи бумажек он быстро извлек листок, испещренный каракулями. — Вот что он говорит: нужно уметь найти путь «между сопротивлением, которое себя губит, и рабским пресмыканием, которое лишает чести».
— Неплохо сказано у Тацита, — неуверенно проговорил Слободан, подымаясь с деревянной скамьи. — Поучительно.
— А почему ты так переживаешь из-за этой часовни? — потрепал его по плечу Казаич, будто уже убедил в чем-то. — Раз надо — пускай сносят. Она свое назначение выполнила и у меня вот сюда записана. Для истории она теперь сохранена — и это главное. А вообще, к чему она нам сейчас? Мы построим еще лучше, когда понадобится. Я имею в виду, может быть, вовсе и не часовню. Но нечто прекрасное мы, конечно, построим.
Она пробудила в нем прилив нежности, как беспомощное, бессловесное животное, осужденное на заклание. Все еще жива, подумал он, как только взглянул на нее, и никакой она не исторический памятник. Эх, мой дорогой учитель, легко сказать — снесем и построим; она же живая — это все равно что сказать: убей человека, мы родим нового, еще лучше.
Он медленно обходил вокруг часовни и, словно боясь прикоснуться к ней рукой, держался края ровной площадки, на которой она была построена. С трех сторон ее окружало кладбище, полого спускавшееся по склону горы, с четвертой — поросший маслинами откос срывался к городку и дальше уступами уходил в море.
Ее скромные, лишенные украшений стены воскресили в памяти очарование, которое некогда в детстве вызывало в нем кружево кафедрального собора. Он уже и думать не хотел — архитектура это или нет. Какое имеет значение, что камень покрыт штукатуркой? Подумаешь какая важность, что звонница достроена позже! А внутри облезшие крестьянские святые, вырезанные из ствола смоковницы! Что путь на Голгофу намалевал какой-то безвестный местный мазила! Часовенка выглядела такой простодушной, чистой и наивной, словно и в самом деле «с цветочками в оконцах» вот-вот взлетит и вознесется прямо в небо.
Дверь, как всегда, была заперта на ржавую цепь с висячим замком. Инженер заглянул в окошко, забранное железной решеткой. Голая каменная утроба, деревянные святые, сухие цветы — все покрыто толстым слоем пыли. Но на широких каменных подоконниках, докуда только могла сквозь решетку дотянуться рука, целые ряды лампадок и свечей самой различной формы и цвета стояли на застывшей восковой лаве, которая годами стекала по камню, а среди свечей, гляди-ка, букетики полевых цветов, гроздья высохшего винограда, горсточка инжира. Огоньки удивленно дрогнули и затрепетали от его дыхания, воск заискрился. Какие-нибудь пахари, моряки, старушки приходили сюда нынче утром, может быть, за несколько часов до него.
Капелла все еще служила свою безгласную одинокую мессу. С одной стороны по осыпающейся штукатурке крупными неловкими буквами кто-то вывел через всю стену масляной краской: «Жизнь отдадим, Триест не сдадим!» Это тоже было уже давно: кусочки красной краски осыпались вместе с побелкой.
Огромный восклицательный знак в конце призыва, будто палец, тыкался по инженеру, разыскивая кнопку, включающую сострадание. Сострадание к часовенке, людям, оставившим здесь знаки своей благодарности, ко всем тем, чьи кости покоились вокруг часовни — те под крестом, эти под звездой, но они были все вместе, как семья, весь городок, весь народ, они были все в сборе, на своей земле. Одни отдали свои жизни за это, другие — за то, но в конце концов все они отдали свои жизни. Все их молитвы собрались здесь, в одном месте, и сделали этот воздух прохладным и сладким, и исполнили значения покой усопших.
Слободан просветленно улыбнулся. Он никогда не был религиозным и даже особенно не размышлял о религии. Но сейчас, в эту минуту, ему вдруг стало жалко, что люди разучились и не могут молиться. И что молиться некому. Ведь если все это выдумано, оно выдумано не просто так. Просто так все это уходит, при нашем содействии превращается в ничто. Многое уже себя скомпрометировало, и это тоже. Разве теперь подошел и наш черед? Так ли и в самом деле безапелляционно предрешена судьба мира?
И еще он подумал: если есть на свете хоть один богомолец, пусть помолится о нас. Обо всех нас: о несчастной Магде, о несчастной Викице, о старом Дуяме и о его псе. И о часовенке на этом холме. И о моей мечте о гавани. О танкерах на море. Сейчас, в эту минуту мы все в сборе. И с нами те, что лежат в могилах. И они с нами. И нет между нами никакой разницы. Нас много. Мы все готовы служить. Может, вместе мы сможем что-нибудь сделать.
Вечером, после пережитого патетического катарсиса, он был в хорошем настроении, полный прекрасных планов. Он решил бороться во что бы то ни стало. После рюмки коньяку отказался пить дальше. Викица над ним сначала смеялась, какое-то время пила одна, а потом рассердилась и ушла. В таком издании Слободан ей не нравился; женщины, даже подвыпив, не очень-то понимают энтузиазм.
Грашо неподвижно сидел за столом, похожий на паука, терпеливо ожидающего жертву, в паутине своего кабинета. Вечно вот так уставится и хоть бы моргнул, подумал инженер, аж страх пробирает: никогда и ничем его не удовлетворишь до конца; что ни скажешь, он только пялится. Но откладывать дальше нельзя.