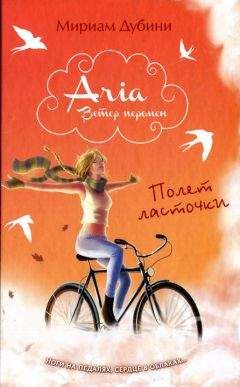— Другими словами, вы считаете, что школа не должна поощрять критический образ мышления своих учеников?
— Я считаю, что ученикам должны быть даны инструменты для развития их критического мышления. В первую очередь инструменты, и уж потом критика. Если вы понимаете, о чем я.
— Я прекрасно все понимаю. И вы, значит, полагаете, что Эмма этими инструментами не владеет?
Моретти посмотрела на Килдэра с тем же выражением, какое у нее появлялось, когда она приступала к устному опросу.
— Если бы она ими владела, ходить в школу не имело бы никакого смысла. Вы так не думаете?
— Или не имело бы смысла ходить в эту школу, — уточнил господин Килдэр.
Эмма заметила, как на лице Моретти дернулась мышца.
— Может быть. Но до тех пор, пока она моя ученица, я обязана сделать все, чтобы ваша дочь имела возможность усвоить то, что предусмотрено школьной программой. — Моретти сделала небольшую паузу. — Впрочем, это лишь небольшая часть моей работы. Я воспитываю новые поколения. Здесь они живут в маленьком сообществе под названием «класс». Покинув школу, они будут жить в большом сообществе под названием «мир». А мне известно, что в мире существуют некоторые правила, которые, чтобы чего-то достичь, надлежит соблюдать.
Господин Килдэр поднял бровь и глубоко вздохнул, словно только что выслушал сбивчивую речь на редкость наивного ребенка.
— Вы напрасно так волнуетесь. Моя дочь вскоре уедет учиться в другую страну, а сразу по возвращении будет записана в частную школу.
Слова отца прошлись холодными лезвиями по барабанным перепонкам Эммы.
— Папа?! — прошептала она в панике.
Ее никто не услышал.
— Я и моя супруга уверены, что она отлично поработала в этом году. И хватит об этом.
Он поднялся из-за стола, пожал Моретти руку и вышел из класса в сопровождении семьи. Моретти застыла, стоя перед пустым столом. Рыжая шевелюра Эммы удалялась от нее все дальше, в мир, где соблюдать правила совершенно ни к чему и где мужчины решают, на чем закончить разговор, не спросив мнения своего собеседника. Потом Эмма вдруг обернулась и бросилась назад с горящими глазами.
— Вы… я… — выдавила она, собираясь с духом, — простите меня за то, что я вам наговорила в классе. И простите моего отца.
Эмма быстро ушла, не сказав больше ни слова.
Моретти почувствовала, как в воздухе разливается что-то похожее на радость.
— Коррадо, мы должны что-то придумать!
Она назвала его по имени, видно, дело было серьезное.
Шагалыч принял самое глубокомысленное выражение лица, на какое был способен. Получилось невесть что, но по телефону все равно не видно.
— Я художник, Лючия. Придумывать что-то — моя работа.
— Если бы ты только ее слышал! Она была в полном отчаянии. Она так плакала! Но ее матери нисколечко не больно видеть ее такой грустной. У моей бы сердце разорвалось.
— Непременно бы разорвалось.
— И потом, зачем отправлять ее в Китай?! Я еще понимаю — Лондон. Мы бы могли съездить к ней. А до Китая разве доедешь?
— Не доедешь. А что, она не может сказать, что не хочет туда ехать?
— Да она говорит! Но ее родители некополе… бимы, нет, некопобелимы…
— Непоколебимы?
— Да. Мать Эммы говорит такими сложными словами, когда злится…
Лючия была в ярости.
— Слушай, мой отец прав.
— В смысле?
— Он говорит, что в Риме так много китайцев, что она могла бы и здесь ходить в китайскую школу.
— Ничего смешного! — возмутилась Лючия, услышав в трубке смех Шагалыча.
— Прости…
— Подруги никогда не смеются, когда их подруга плачет.
— Прости, я этого не знал.
— Вот теперь знай.
— Хорошо, я уже не смеюсь.
— Я понимаю, что она больше моя подруга, чем твоя, но все равно. Смеяться нехорошо.
— Нехорошо. Прости. Я увлекся.
Последовала назидательная пуаза.
— И потом, когда человеку так плохо, он должен быть рядом с друзьями, с семьей, а не на другом конце света среди незнакомых людей, говорящих на непонятном языке. Разве не так?
— Так! — возликовал Шагалыч.
— Ты чего?
— У меня появилась идея!
— Какая?
— Я должен сделать то, что умею делать лучше всего!
— А именно?
— По телефону этого не объяснить. Нам надо увидеться.
Разумеется, это был всего лишь предлог, чтобы увидеть ее, но Лючия легко попалась в расставленные сети:
— Да, но когда?
— Как можно быстрее! Лучше прямо сейчас!
— Прямо сейчас я не могу.
Охваченный творческой лихорадкой, Шагалыч ее больше не слушал:
— Захвати с собой семь футболок. Одну серую, одну белую, одну розовую, одну черную, одну красную, одну зеленую и одну желтую — желтый цвет молодит.
— При чем тут это?
— Я тебе потом все объясню.
— Хорошо, я куплю их на рынке по пути в мастерскую…
— Отлично. Увидимся в мастерской в пять. Пока.
Шагалыч положил трубку и открыл свой любимый шкаф. С красками и кисточками.
— Ты больше никогда не будешь плакать, Эмма Килдэр. Клянусь!
Он быстро покидал в сумку все, что нашел в шкафу, и полетел стрелой на своем гоночном велосипеде в направлении мастерской.
В последний раз Серена ездила на велосипеде маленькой девочкой. У нее была загорелая кожа и бутылка воды в корзине. Ее родители каждое лето снимали одну и ту же квартиру. Во дворе всегда стоял все тот же велосипед, который с каждым годом становился все меньше для ее вытягивавшихся ног. На велосипеде до моря было минут десять. Серена доезжала за семь. И не уходила с пляжа до тех пор, пока не закатывалось солнце, а след от купальника не становился чуть четче по сравнению с предыдущим днем. Это был велосипед для девочек. Совсем не похожий на велосипед ее дочери. Серена осмотрела голубую раму так же быстро, как в детстве, когда хотела добраться до солнца как можно скорее, чтобы не пропустить ни одного луча. Она тщетно пыталась успокоиться.
— Я приеду завтра в девять на вокзал Термини, — сказала Грета.
Серена не слышала ее голоса три дня, которые показались ей тремя годами. Висевшие на кухне часы с гусеницами показывали восемь. Через час она снова увидит свою дочь. Надо спешить.
— У меня все болит, — сказала Грета, потягиваясь.
Они сели в Неаполе в ночной поезд. Второй класс, с сидячими местами. Деревянный настил, на котором они спали с Ансельмо на берегу моря, показался ей царским ложем. Тут она поняла, что в третий раз просыпается рядом с ним, и внезапно охватившая ее радость смела все остальные чувства.
— Привет.
— Привет.
Утренний поцелуй. Вот что такое счастье.
— Мы почти приехали.
По их лицам пробежала легкая тень. Скоро она снова увидит свою мать. А он вернется к своим посланиям, полоскам в небе и ветру.
— Что теперь будет? — спросила Грета полушепотом, глядя, как Рим встречает их согнувшимися в поклоне олеандрами.
— Теперь мы постараемся быть оптимистами.
Звучало не очень убедительно. Чего-то не хватало. Может, немного смелости, может, чувства реальности. Но больше у них ничего не было. И они решили, что этого должно хватить. Поезд замедлял свой ход, а они продвигались по коридору в обратном направлении, постепенно приближаясь к велосипеду Ансельмо, привязанному в последнем вагоне.
Грета посмотрела за окно.
Они шли, но стояли на месте. Движение поезда вперед уничтожало их движение в обратную сторону. Казалось, что весь мир вокруг остановился и только они могли идти дальше, рука в руке, бесконечно. Вместе навсегда.
Они дошли до последнего вагона. Поезд остановился на вокзале.
Грета спрыгнула на перрон и почувствовала себя космонавтом, который приземлился на Луне и пытается медленно передвигаться неуклюжими и неестественными шагами, пока рядом стремительно проносится темная непознанная Вселенная, кружа вокруг спутника Земли. В этом хаосе она увидела Серену. Мать шла ей навстречу. Потом побежала. Потом остановилась в нескольких шагах, словно хотела попросить разрешения обнять ее.
— Созвонимся позже? — спросил Ансельмо.
— Да.
Ансельмо помахал Серене рукой и исчез в толпе на своем велосипеде.
— Грета. Я чуть не умерла от страха.
Серена взяла дочь за руки. Ни тени упрека в голосе. Она просто была счастлива снова видеть ее.
— Ты не сердишься?
— Сердилась. Чуть-чуть. Сейчас уже нет. Ты здесь. С тобой все хорошо. Все остальное… все остальное мы уладим, — закончила Серена, с трудом скрывая волнение.
Звучало здорово. Но на деле все было несколько сложнее.
— Ты так много и так долго от меня скрывала.
— Ты сердишься?
— Да.
Серена приняла удар, но не сдалась. И начала заново: