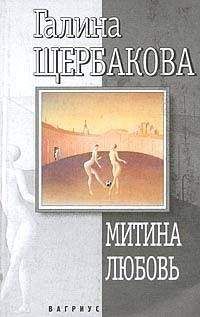— Кто там? — кричу я в старый дерматин, ибо никого не жду и никем не предупреждена.
— Это я, тетя! Бабушка дала мне ваш адрес.
Я открываю дверь.
— Митя! — кричу я. — Живой!
— То есть? — спрашивает мальчик и недоуменно смотрит на номер квартиры.
— Я — Егор.
— Это все равно, — отвечаю я. — Хотя нет! Нет! Ты — Егор! Я запомню, ты
— Егор. Я больше не собьюсь.
— Я с Леной. Можно?
Она смотрит на меня из-за его спины, девочка с рюкзачком и сбитым в сторону ртом.
Я поняла, Господи! Ты даешь им шанс?.. Чтобы они все иначе… Или чтоб я?
Падает на обувь рюкзачок. Дети идут в ванную. Где-то далеко смеется плач.
…Над мо-е-ю го-о-ло-во-о-ю…
Ты спятила, женщина. Спятила. Звенело у тебя в голове.
Я тогда покаталась-повалялась в постели, но, как говаривал один мудрый старик, молодой организм до поры до времени свое берет.
Прошло полтора года. И я вот иду к Фале. Вот я уже вошла. Я на нее смотрю.
Ей уже сильно за семьдесят, но в ней всегда хороши были прямая спина и красивые кисти рук, которые артрит победить не мог.
Комнатку, в которой она меня принимала, я знала, она была крошечной, но на этот раз почему-то оказалась и косоватой, однако мой глаз уперся в ее юбку, которую я помнила уже лет двадцать. Синюю, шевиотовую… Когда Фаля села закинув ногу на ногу, я увидела, что изнутри она обужена, грубо, методом загиба, считай, на две ладони. Сейчас юбка крутилась у нее на поясе и явно требовала уменьшения.
Я подумала, что ей не много осталось, что она как бы иссыхает. Но грех гневить Бога, возраст вполне порядочный, более «двух Пушкиных»… Чего же еще? Мысль, конечно, гнусная, и, отловив ее в последний момент, я прищучила ее. Потому что этих «нехороших мыслей» за жизнь накопилось столько, что, не научись я откручивать им шеи, мою бы они развернули еще неизвестно куда.
— Ты мне нужна, — сказала Фаля. — Со мной непорядок.
Что приходит в голову прежде всего? Нащупано у себя нечто. Опять же мозговые явления: кажется, что выскочил газ-свет, ан нет. Или наоборот: выключил и бегаешь проверять живой ладонью. Недержание, несварение… Наконец, фобии. Мании. О Господи! С этим у нас — о'кей!
Вот что подумалось, когда Фаля сказала про непорядок. А тут еще юбка, обуженная на две ладони.
… — То, что это про мою смерть, это понятно… — продолжала Фаля. — Я к ней готова. Но они приходят и приходят. Видишь, я уже не передвигаю стулья… Они стоят так, как те садятся.
Действительно, именно стулья стояли странно, вызвав во мне ощущение косоватости комнаты.
— Каждый раз это на ясном уме, — говорит мне Фаля, — я в этот момент что-то делаю, вытираю стол там или гоняюсь за молью. Много моли… Я плюнула, но есть такие настырные… Будто изгаляются над тобой… Но не об этом речь. Я что-то делаю, и приходит соседка в салопе. Слушай внимательно. Приходит и просит попить.
…Воду соседка пьет запрокинув голову, без глотков, будто вливает в воронку. Некрасивый вид… Но главное не это. Главное, у нас никогда не было с ней ничего общего, даже имени ее я не знала, только фамилию. Храмцова. Соседка Храмцова из пятьдесят шестой.
Так вот… Влив в себя воду — бокал на триста граммов — и не вытерев капель с подбородка, водяным ртом Храмцова проблямкивает:
— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне теперь делать? Как быть с комсомольским билетом и грамотами ЦК?
Я предлагаю Храмцовой прежде всего снять салоп. От него пахнет прибитой дождем старой пылью.
— Разденьтесь у себя дома и приходите, поговорим.
На слове «у себя» делаю ударение. Не развешивать же мокредь в прихожей? В моей кубатуре и так дышать нечем. Воздух доходит только до шейной ямочки и выпрыгивает назад, как шарик. Но не будешь же объяснять этой Храмцовой: моим легким вреден ваш салоп.
— Хорошо, — говорит соседка, — сейчас разденусь и приду.
Она уходит, оставив дверь открытой, а я мою трехсотграммовый бокал. Место, которого касались губы Храмцовой, тру содой. Я очень верю в заразность психических болезней. Иначе не объяснить их количество. Долго поливаю «место губ» кипятком.
Потом стою в дверях и жду, когда Храмцова разденется, снимет этот старорежимный салоп — никто уже сто лет таких не носит, откуда только он у нее — и придет разговаривать. Но соседка не идет. Тогда я иду к ней сама и звоню в дверь: вдруг с ней что случилось? Дверь не открыли. Я повернула ручку и вошла — квартира была пустой. Возникла мысль о балконе. Но дверь на балкон была не просто закрыта — она была заклеена широким серым пластырем. Почему-то возникла жалость к этой несчастной щели.
Я вернулась в коридор, удивляясь, что, запечатав дверь балконную, Храмцова входную держит открытой. Это в наше-то время!
И вот я снова у себя в квартире и снова удивляюсь этой Храмцовой. Куда она исчезла? А тут она снова появилась. Опять же в мокром салопе и с теми же словами:
— Попить воды…
Точно так же влила в себя, как через воронку, воду. Так же водяным ртом проблямкала:
— Мою дочь попутал дьявол. Она крестилась по пояс голая. В вафельном полотенце. Скажите, что мне делать? С комсомольским билетом и грамотами ЦК?
Я ей снова сказала, что прежде всего надо раздеться…
И началось по новой. Я пошла к ней и во второй раз испытала жалость к балконной щели, которую стягивает пластырь…
Значит, теперь в мокром салопе должна появиться Храмцова и попросить пить… Уже в третий раз.
Надо закрыть дверь и позвонить сыну, чтоб рассказать, какая из-за Храмцовой стряслась глупая история, но, подумала, Храмцова за дверью может услышать разговор и поймет, как к ней относятся, в частности к этому ее салопу и неприятной манере вливать в себя воду без глотков. Надо отложить звонок на потом, когда эта безумная Храмцова угомонится и перестанет туда-сюда бегать.
Я не заметила, сколько так просидела в темноте, во всяком случае, вечер кончился, это точно. Наступила ночь. И такая, что я удивилась звездности неба. И не в том смысле, что звезд много и что они большие-маленькие, голубые там или зеленые, а в том, что я как бы знала, кто из них мужчина или женщина, кто старик, а кто молодой, и даже пристрастия каждой звезды были определены. Например, были такие, что морщились от неудовольствия. Были и подхихикивающие.
Звезды так взволновались, что я вышла на балкон: вдруг это ложный эффект и его дало стекло окна? Когда уже вышла, сообразила — у меня не было балкона. Я ведь живу на первом этаже. И там я вспомнила или поняла, что Храмцова умерла уже давно. Я сюда въехала, а через неделю Храмцову вынесли ногами вперед. Мы даже не были знакомы, а что соседка по фамилии Храмцова, так это я узнала, потому что были выборы и какие-то ребята пришли проверять списки. И я им сказала: «В пятьдесят шестой женщина умерла». И парень, веселый такой, сказал: «Вот и замечательно. Баба с возу… Значит, вычеркнем Храмцову навсегда…»
А тут вижу: стоит в дверях моя мама. На ней серое платье рубашечного покроя. Такого в ее время не было. На шее бусы каких-то красных необработанных камней, сроду таких не видела.
— Где ты нашла этот битый кирпич? — спросила я маму. — Это натуральное или подделка?
— Подделки кончились, — сказала мама. — Ты ведешь себя глупо.
Я пошла с ней в эту вот комнату, тут как бы сидели гости.
— Это твой отец, — сказала мама, показывая на неизвестного мне мужчину.
— Он сидел на твоем месте.
— Откуда ж мне его знать, — засмеялась я, — если он пропал без вести, когда мне было три года.
Потом смотрю — Митя. Улыбается, он же сроду приветливый. А рядом с ним Гоша. И вся ваша родня. Я только собираюсь их спросить, как все исчезают…
Я не помню уже, сколько раз так было. Уже нет страха, а одно ожидание звонка Храмцовой. Уходят они тоже всегда в тот момент, когда я раскрываю рот. Раскрываю, а моль между ладонями. Бью.
— Вы, Фаля, — смеюсь я, — просто задремываете на ходу… Такое случается…
— А стулья? Ты на них посмотри. Так может расставить нормальный человек?
«Конечно, не может, — про себя думаю я. — Ты сама произнесла это слово. Ты, Фаля, тихо пятишься с ума… Ничего удивительного — старость, одиночество и горе».
Я думаю, что надо позвонить Ежику и рассказать, что мать выходит на несуществующий балкон.
— Не вздумай, — читает мои мысли Фаля. — Не хватало, чтоб он меня возненавидел. Сейчас он раздражается на расстоянии, а ты ему задашь задачу. Устраивать в больницу, то да се.
Только в хорошем чтиве я приму ходящих в салопе призраков. В жизни — увольте. Обвисшую юбку — это да, пойму. Этот чертов загиб в две ладони внутри ее. Это ужасающее убывание тела, самоуничтожение плоти, мечущейся между вкривь и вкось расставленных стульев.
Болезнь, тяжелая болезнь… Ежу видно, а сыну Ежику нет. Такая вот невольно лингвистическая получилась фигура.