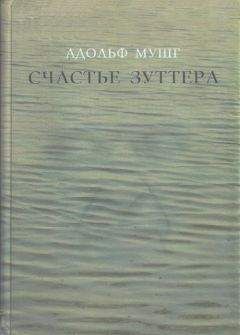Все изменилось, думал Зуттер, с тех пор как пациенты превратились в клиентов и стали требовать, чтобы им читали — словно проповеди или сказки — прилагаемые к лекарствам рекомендации, в составлении которых принимал участие и юрисконсульт. Чтобы не давать пищи для жалоб. Неудивительно, что и больничные шутки стали более корректными, грустными и жалкими: «Мы отпускаем вас, но и вы не отпускайте тормоза», «Только не делать из мухи слона». В этот мир шутовства попадаешь, как в сумасшедший дом, пусть даже и с насквозь простреленным легким. А когда тебя обслужили как следует, можешь убираться, но только не сразу, не прыжком с двадцать четвертого этажа больничной башни. Это было бы некорректно.
«Немало скажет тот, кто скажет „вечер“».
Зуттер улыбнулся. Или, чтобы быть достойным своего халата, который сзади не застегивался, а спереди не задирался, ухмыльнулся. Чему?
«Немало скажет тот, кто скажет „мопсик“».
Это была одна из тех милых шуточек, которыми он доставлял Руфи радость в пору их помолвки. Ее можно было варьировать как угодно. Немало скажет тот, кто скажет «кофе». Их любимое присловье, когда они любили друг друга. Немало скажет тот, кто скажет «липа». Или «Эмиль». Или даже «жопа». Главное, чтобы последнее слово было двусложным. Тогда Зуттер еще не знал, что с этим стишком на языке забрел в район обитания своего предшественника, настоящего принца, с которым Руфь была обручена в детстве. Он столкнулся с этим, только когда стал читать ей сказки и как бы отправлялся в исследовательское путешествие по ее прошлому. В иной форме она ничего ему не рассказывала, даже о джайнах или об индейцах навахо. Она была не руки. Она вся состояла из присловий. Бувар и Пекюше. Подвенечное платье осталось под венцом. Мне надо почистить свой зуб. Еще раз испытала счастье. Molto interessante. Небритый и от родины вдали. Коленочка, и больше ничего.
Боже, как он любил губы, произносившие эти присловья.
Тебя уже нет в присловьях, Зуттер, и в сказках тоже, но ты все еще в одной с ней истории. «Прыжок с моста — и ты навек свободен». Все еще, даже если тогда, когда Руфь выражалась языком Шиллера, этот мостик был не выше маленького трамплина в плавательном бассейне. Стало быть, перестань носиться с мыслью о двадцать четвертом этаже. Взгляни-ка на нее, на эту местность, где прошла твоя история, и с юмором встречай бушующую весну. «Все это я дам тебе, так что ты упадешь на колени и будешь молиться мне». Молиться, Зуттер, можно и стоя на ногах.
Подумай только: кто-то звонит тебе каждую ночь, всегда в семнадцать минут двенадцатого. Значит, ты нужен ему или ей. И кто-то не постесняется выстрелить в тебя — или все же постесняется? Руфь об этом уже не спросишь, но выстрел прозвучал — неопровержимый, зарегистрированный в протоколе: иначе откуда бы взяться дыркам в твоем теле? Немаловажен и вопрос, можешь ли ты рассчитывать на повторение содеянного? Смотрим дальше: чертенок сообщает тебе в записке, что держит у себя твою кошку, но не насильно, а с благотворительной целью. Тобой интересуется следователь. Он и не намекает на это или об этом, но ты знаешь то, что знаешь, и он тоже хочет знать это. Потому что продолжает слежку: сначала велел обыскать твой дом, но не говорит тебе, что он там обнаружил, — однако и в тебе самом он что-то ищет и надеется найти. Правосудие бедно, но ты стоишь того, чтобы тобой заниматься.
Это что-нибудь значит или не значит ничего? Видишь ли, Зуттер, тебе надо держаться с достоинством. Ты пользуешься уважением, есть люди, для которых ты что-то собой представляешь. Что бы это «что-то» ни значило. Тебе больше не надо напускать на себя важный вид, ты и так важная особа. Взгляни только на весну, что бушует внизу. Разве она не достойна того, чтобы на нее отозваться! Птички вокруг щебечут. Неужто ничего в тебе не шевельнется чуть левее огнестрельной раны — там, где должно быть сердце? Соберись с духом, Зуттер.
17
— Читай дальше, Зуттер. Читай Гевару.
Первая фраза была ему знакома. Вторая, когда он услышал ее в первый раз, показалась ему чужой. Фраза принадлежала перу благородного господина Хуго, с которым Руфь была помолвлена в возрасте двенадцати лет. Это был волшебный детский праздник, благородный господин был в ту пору едва ли старше Руфи, и звали его еще не Хуго, а Лорис. Но он жил уже так долго, что успел написать прекраснейшие любовные стихи, в том числе и стихи бабушки, адресованные внуку: «И когда умру я, юной стану я снова».
— К свадьбе я, к сожалению, немного опоздала, — говорила Руфь. — Когда я родилась, его уже двенадцать лет не было в живых. Но никто меня так не баловал, как он, он показал мне, какими должны быть мужчины, ты только послушай: «Ему хватило легкого движенья, / Чтоб гордо прыгнуть на соседний выступ, / Не чувствуя земного притяженья». И после этого что мне было делать с глупыми мальчишками, которые бегали за мной со своими гоночными велосипедами и устройствами для дыхания под водой?
— Пока в твою жизнь не вошел я.
— Скажу честно, Зуттер: будь Лорис поблизости, я бы на тебя и не взглянула. Но его несчастье стало твоим счастьем, если это можно назвать счастьем. Принца Лориса заколдовали, превратив в пожилого человека, того самого благородного господина Хуго. Он носил фрак и жил в маленьком замке. К сожалению, он слегка окаменел, поэтому его и хватил удар, когда он узнал, что его сын покончил с собой. При том, что это был только его реальный сын, а не истинный. У него было много истинных сыновей, Зуттер, ибо он многих любил, но по-настоящему любил он только одного — принца Лориса, которым он когда-то был сам. Мы любили одного и того же — благородный господин и я. Но именно с этим единственным из его сыновей его разлучила такая дурацкая штука, как время. Или ты не знаешь, что время — это величайшая глупость? Не будь его, я бы не опоздала к свадьбе.
— А кто такой Гевара? — спросил Зуттер, я даже не знаю, когда он родился, но, видимо, и он появился на свет слишком поздно, чтобы увидеть твоего принца, а может, и для благородного господина слишком поздно.
— Существует не один Гевара, — ответила Руфь, их двое, трое, несколько, как есть несколько Вьетнамов.
— Он был только один, — возразил Зуттер, — иначе мы бы не остались с тобой в одиночестве в этих «Шмелях».
— Того Гевару, которого ты мне читаешь, благородный господин знал. Иначе он не написал бы: читай дальше Гевару. Этот Гевара, когда умер, был не так молод, как Че, он достиг преклонного возраста, как бывает с лицами высокого духовного звания. Он и был таким лицом, проповедником и исповедником при дворе императора, над владениями которого никогда не заходило солнце. Но однажды оно все-таки зашло, и император угас в своем монастыре, как в тюрьме.
— Карл Пятый, — сказал Зуттер.
— Я этих Карлов не считала, — возразила Руфь, — но раз уж мы заговорили о тюрьме: мой благородный господин Хуго сидел в тюрьме своей окаменевающей плоти и мечтал об истинном сыне, который разобьет его цепи.
— Чьи цепи? — спросил Зуттер.
— Того и другого. Такой сын мог быть только истинным, а не просто реальным, и он назвал его Сигизмундом. Но и Сигизмунд не мог стать таким же истинным, как он сам в ту пору, когда я называла его Лорисом. Поэтому он и Сигизмунда заставил мечтать, и тот мечтал о короле детей, об этом же мечтал и Иисус Христос, когда говорил: пусть они приходят, не надо им мешать.
— Детям? — спросил Зуттер.
— Королям детей, — сказала Руфь, — я это знаю. К сожалению, благородный господин так и не домечтался до своего, да и мечты у него бывали ложные.
— Разве можно иметь ложные мечты? — удивился Зуттер.
— Можно, — серьезно ответила она. — Ложные мечты — это самое дурное, что бывает на свете. Ими люди убивают себя, и вовсе неважно, что тебя лишит жизни, это может быть все что угодно, первый встречный.
— Расскажи мне о ложной мечте благородного господина Хуго, — попросил Зуттер.
— У него были реальные сыновья, и были истинные, — сказала Руфь, — и самым истинным из всех был он сам, в детстве.
— Когда был Лорисом, — сказал Зуттер.
— Да, — подтвердила Руфь, — и когда время их разлучило, благородный господин стал мечтать о том, что юный принц, которым он когда-то был, не его реальный, а значит, и не истинный сын. Это был совсем не он сам. И это действительно так! Волшебное свойство Лориса заключалось в том, что он не был только самим собой. А иначе как бы он мог стать моим женихом? Он был и мной, он был даже тем, кем я никогда не была и не могла быть. Он был невинной девушкой, которая приходит к своему богу, и юным богом, который проведывает свою бессмертную бабушку; а если бабушка оказывается смертной, это тоже ничего не меняет. Все боги и богини приходили к Лорису, даже из самых глубоких времен, и в его устах становились воспоминаниями о самих себе, о своей бессмертной юности. Думаешь, мне было трудно делить Лориса со всеми этими созданиями? Без него я даже не узнала бы, что они существуют. А теперь представь себе, Зуттер: благородный господин, этот уже почти окаменевший человек, вдруг начинает мечтать, что все — и свадьбы богов, и дни рождения короля — он выдумал, что все было не совсем настоящим и потому неистинным. Этого-де он, принц в коротких штанишках, никак не мог испытать. И он приказал себе жить только реальной жизнью, страдать реальными страданиями, любить реальных женщин и иметь реальных детей. Не удивительно, что один из них его убил. Стань он моим, я позаботилась бы о нем иначе. Я бы нашептывала ему: ты видишь ложный сон, не надо с ним просыпаться. Ты не только тот, кем когда-то был. Тот, кем ты не являешься, кем никогда не был, тоже принадлежит тебе, считай, что тебе его подарили. Не старайся жить так, как мы, обыкновенные смертные, страдать, как мы, и под конец стать как мы — даже если ты и можешь это делать. Это тебя погубит. Тебя убьет дурацкое время. Ты будешь выглядеть так же глупо, как и оно само. Ты вставишь себе искусственные зубы, лицо у тебя вытянется, на верхней губе появятся противные усы: каково тогда богине будет целовать тебя! Даже мне — и то не захотелось бы. Не стану я с такими усами обманывать моего Зуттера. Пожалуйста, оставайся таким, каким ты никогда не был, и перестань думать о том, что у тебя не было настоящей юности. Зато ты сам был у юности, у юности богов, демонов и бабушек, у юности всего мира. Даже юность времени не обрела бы голоса без твоих уст…