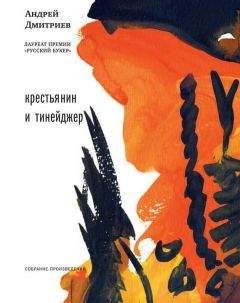Сумочку было жалко. Панюков шагнул в озеро, забрел в него по колено, выловил подарок и вылил из него воду…
«Что с тобой?» — опешил Вова при виде Панюкова в мокрых брюках и в разбухших от воды ботинках, с репьями в голове, с тоскливым тусклым светом в глазах.
Панюков и не хотел, а рассказал, что с ним приключилось. Помолчав веско, Вова рассудил: «Ты правильно сделал, что сумочку не выбросил. Саня тебя, я в этом полностью уверен, не обманывает, а сумочку ты высушишь, и будет она как новая. А то, что этот гад подкоп копает, тут ты будь спокоен: еще как копает. — Вова снова веско помолчал, потом спросил: — Говоришь, хохотала?»
«Вовсю», — подтвердил Панюков.
«Вот это вот — погано, — сказал Вова. — Она — неосторожная. Раз „ха-ха!“, два „ха-ха!“, а на третий не заметит, как попалась. И кстати, а зачем она была в Пытавине?»
«Не знаю я, и не хочу я знать, — гордо сказал Панюков. — Зато я знаю, что я сделаю. Я завтра же опять туда поеду. Найду там этого коровьего Айболита и разъясню ему… Так разъясню, что ему нечем будет больше подкопы копать».
«А толку? — строго спросил Вова. — Он на тебя бумагу накатает и сам себе напишет справку о телесных повреждениях. Ты сядешь, а он — вот он! — тут как тут, даже без всякого подкопа».
«И сяду», — отозвался Панюков снова гордо, но уже и вяло, без прежней решимости.
Остаток дня прошел в молчании. Вова задумчиво посвистывал сквозь зубы, втягивая меж ними воздух, как если б зубы ныли, и лишь за ужином свист оборвал.
«Ну? — сразу спросил его Панюков. — Что ты мне посоветуешь?»
«Ясно одно, — ответил Вова. — Эти подкопы надо прекратить, и чтобы раз и навсегда».
«Что мне ему сказать?»
«С ним вообще не нужно разговаривать. А твоя Саня должна знать, что она — только твоя и ничья больше».
«Она и знает».
«Ты уверен?»
«Конечно, знает, если за меня идет».
Вова напомнил: «Идет-то идет, да не пошла еще. — И со значением сказал: — Чтобы она без разговоров, точно знала, что она твоя, ей нужно точно стать твоей».
«Как это — точно? — сперва не понял Панюков и — понял. Даже картошкой поперхнулся. Откашлялся и пояснил: — Нельзя! У нас с ней уговор. Мы с нею даже не…» — хотел сказать «не целовались», но не сумел сказать, только руками замахал.
«Я что, не понимаю? — сказал Вова сочувственно, — я все отлично понимаю; махать тут на меня руками нечего. Им всем такие уговоры нравятся: чтобы все было строго, по-серьезному. Они так говорят. Только на самом деле им другое нравится».
«Она не просто говорит, — сказал Панюков, — она и про себя такая».
«Не знаю, может, и такая, да только хновская. Ты что, не знаешь хновских девок? Их мы еще до армии с тобою знали, и после армии их знали; мы еще как их знали!..»
«Это было другое», — упрямился Панюков.
«Другое не другое, но чего ты так боишься? Она обидится для вида, может, и в морду тебе даст, зато потом спасибо скажет и, главное, уже не будет на чужие шутки хохотать и попадаться…»
Панюков промолчал.
На другой день поехал в Селихново. Прежде чем показаться Сане, выстоял долгую очередь за бутылкой сладкого вина «Кагор». Саня, в тот день мывшая полы в конторе, ему обрадовалась, но «Кагору» удивилась.
«Сегодня день у нас такой, — загадочно сказал ей Панюков. — Такой особенный, что можно нам и выпить по глоточку. Так что бросай пока ведро и тряпку, едем в Сагачи».
Саня доверчиво послушалась и, не домыв полы, поехала с ним в Сагачи.
Издалека увидев их, идущих с остановки, Вова навстречу не пошел, лишь помахал рукой и поспешил скрыться в теплице. Как только дошли до калитки, Панюков чинным жестом пригласил Саню войти в дом. Саня вошла едва ли не на цыпочках.
«Это тебе», — сказал ей в доме Панюков, вручая сумочку.
«Ох, бежевая!» — с восторгом выдохнула Саня.
«Там подкладка немного влажная, — сказал Панюков, — но ты не обращай внимания, подсохнет. Это я с ней вчера под дождь попал…»
Он замолк, испугавшись, что Саня вспомнит: вчера не было дождя, но Саня не вспомнила. Вертела сумочку в руках, разглядывала ее со всех сторон, мяла хозяйски пальцами ее искусственную кожу, поглаживала ладошкой…
Сели за стол друг против друга. Панюков вынул из бутылки полупрозрачную капроновую пробку, разлил «Кагор» в две чайных чашки. Саня вино чуть пригубила, сказала: «Вкусно». Панюков выпил свою чашку в два глотка. Голова его с отвычки сразу загудела и набухла жарким пламенем, как печь, в которой при хорошей тяге занялись дрова.
Солнечные пятна плыли по обоям словно наперегонки, взмывали Сане на лицо и, мягко опалив его, мягко остывали. Панюков молчал, и жмурился, и улыбался ей, и Саня улыбалась ему. Потом он еще налил себе «Кагора» и выпил его один. Встал из-за стола и по очереди задернул занавески на всех окнах. Пятна на обоях все погасли, и лицо Сани погасло. Шагнув к ней, Панюков даже рад был, что ее лица почти не видит.
…Выйдя из хлева, Вова вдохнул полной грудью не по-осеннему нагретый свежий воздух и проследил ленивым взглядом полет прозрачной паутинки, парящей в воздухе, затем его взгляд угодил в поток солнечных лучей, и Вова закрыл глаза. Тут он услышал страшный и нестерпимо громкий женский крик. Когда открыл глаза, крик оборвался. Прошло лишь несколько мгновений тишины, и крик раздался вновь — на этот раз жалобный и не очень громкий. И этот крик, ослабев, стих, будто угас. Вове стало одиноко, и он пошел к себе. Женщина снова закричала, и уже можно было различить слова: «Жжет, жжет!..»
Вова заперся в своей избе. Сидел у окна, грустил и смотрел на дорогу. Долго смотрел, даже заскучал. Потом увидел Саню. Путаясь в ногах, она бежала по дороге с сумочкой в руке. Вдруг встала как вкопанная, будто бы силясь что-то вспомнить. Посмотрела на сумочку, бросила ее на дорогу, дальше побежала и скоро скрылась из виду.
Выждав немного, Вова пошел к Панюкову. Тот стоял в углу за печкой перед рукомойником и внимательно разглядывал себя в зеркале. Не обернувшись на Вовины шаги, сказал с досадой: «Надо же, забыл побриться, а кожа как наждак».
«Да пустяки», — попытался успокоить его Вова.
«Кому-то все пустяки», — ответил Панюков с ненавистью, и Вова счел за лучшее уйти и, может быть, опять заняться теплицей. Напоследок посоветовал: «Ты сразу-то не брейся, подожди. Руки вон как дрожат, еще порежешься».
Когда руки наконец перестали дрожать, Панюков развинтил бритвенный станок. Лезвие в нем покрылось толстой, грязноватой мыльной коркой, и его давно пора было менять. На обычном месте в подвесном шкафчике возле рукомойника лезвий не оказалось. Панюков пошарил по полу под шкафчиком, под рукомойником — лезвий не было нигде. Поискал на печке, потом и на столе, заглянул попеременно за все четыре занавески — лезвий не нашлось ни на одном из подоконников.
«Куда же я их дел? Куда я дел их?» — бубнил, как заведенный, Панюков, уже отлично понимая, что никуда их деть не мог и точно видел их еще утром, когда умывался перед поездкой в Селихново… И Вова взять лезвия не мог, ведь у него — свои, и Саня не могла: зачем ей и когда б она смогла? Когда он, приходя в себя, смотрел не на нее, а в потолок? Ну разве что тогда; только зачем? Зачем ей лезвия?..
Страх сдавил голову и грудь, холодною волной захлестнул ноги, и ноги стали тряпками. Вцепившись в подоконник, Панюков осел на пол. Сидел, выпучив глаза и изо всех сил убеждая себя: «Нет, нет, такого быть не может. Не может быть такого!..» Потом немного отупел, стал убеждать себя, что с пола встать — сумеет. Встал. Сказал себе, что надо бы не психовать и все сделать с умом, то есть отправиться в Селихново. И не словами убеждать себя — глазами убедиться: с ней ничего плохого не случилось… Получится — поговорить и убедить ее, что ничего плохого не случилось.
Панюков пошел на остановку. Он начисто забыл расписание автобуса, которое всегда знал наизусть. Взбираясь на шоссе по насыпи, он успокаивал себя: если автобус не придет, можно легко поймать попутку… Ждал. Уже настали сумерки, а никакой автобус все не приходил. И ни одной машины не проехало ни в одну сторону шоссе, лишь ветер ныл.
Панюков решил вернуться. Стыдясь немного этого решения, он оправдывал себя так: если все время психовать и думать, что плохое может произойти, оно и впрямь случится, а если быть спокойным и не верить ни во что плохое, то ничего плохого не произойдет.
Спать лег бесстрашно, даже свет в доме погасил и спал без снов. Утром страх вернулся, но не такой сильный, как прежде. Под вечер приехал почтальон Гудалов на велосипеде. Привез счета на электричество и отдал Панюкову письмо в конверте, без какой-либо надписи на нем.
«Что это?» — спросил со страхом Панюков.
«Почем мне знать? — сказал Гудалов. — Велели передать лично в твои руки».
Панюков не посмел спросить, кто велел, и Гудалов уехал. Панюков вскрыл конверт. Коротенькое, в треть листа школьной тетрадки, письмо было написано простым карандашом и незнакомым Панюкову крупным почерком: